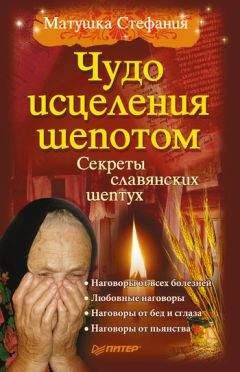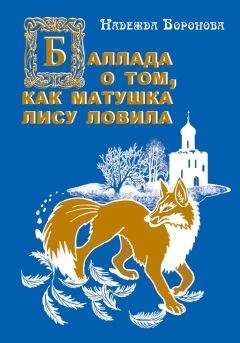Василий Аксенов - Бумажный пейзаж
Дверь открывается, и я спрашиваю ее в лицо — Феня, ты дома? Она, не ответив ни слова, поворачивается спиной и удаляется в глубины квартиры. За что такой холод? Быть не может, что уже узнала про председателя.
Феня, смотри-ка, экая хохма — в «Честном Слове» моя Фамилия! Да Ефросинья же, что случилось?
Вхожу в ливинговую (так они большую комнату называют), и передо мной незабываемая картина: Валюта Стюрин, потомок королей, и Ванюша Шишленко, тоже, как видно, не последний аристократ, сидят с газетами, углубленно просвещаются, даже голов не поднимают, непривычно тихо звучит джазовая скрипка. Она, моя любимая, бух-бух, садится, ноги в сапогах выше колен закидывает на стол, разворачивает свой экземпляр, у всех троих «Честное Слово» за сегодняшнее число.
Признаюсь, в этот момент я очень сильно сам себя заколебал.
— Что это, чувачки, спрашиваю, — изба-читальня образовалась? Красный чум?
Всегда, когда вижу эту компанию, стараюсь под их манеру подделаться, хотя и презираю себя за это: подумать только — кто я и кто они? Несопоставимые величины. Фактически руководитель экспериментальной лаборатории и пара художественных бездельников. Почему же не они под меня, а я под них?
— Але, — говорю, — Фенька, не виделись сто лет, месье Велосипедов отведал бы котлет.
Молчание. Выключается система. Зловещая тишина без джазовой скрипки.
— Как это вы попали в компанию таких подонков? — вдруг вяло спрашивает Ванюша Шишленко.
Обжигает виски леденящий смысл вопроса.
— То есть? Как это? Подонков? — с трудом выталкиваю, даже горло прихватило, изумленные контрвопросы. — Да вы соображаете, Ванюша, что говорите? Лучшие люди страны, такие таланты!
Валюша Стюрин высокомерно улыбается, в самом деле что-то королевское:
— Странная неразборчивость, блябуду, экая всеядность. Не разобраться в подонках, подлинных советских ничтожествах? Стрэндж, вери стрэндж…
Фенька молчит, и я перехожу в наступление:
— Да вы, Валюша, соображаете, что говорите? Вы наверное, не следите за культурной жизнью страны. Ну, читали ли вы хотя бы роман Бочкина «Два берега одной реки»? Ведь это же такая глубокая философия! А Кайтманов, а Теленкин? При Сталине такое было невозможно! А скрипичные пассажи Блюхера? Ведь они завораживают! А батманы Маши Иммортельченко, ведь упоение же, вечное же, истинное искусство! А мощь Гонцова! А психологизм Жанны Бурдюк! А «окопная правда» Чайкина! А как насчет ораторского искусства токаря Пшонцо, ткачихи Гурьекашиной, а возьмите…
— Сахарова, Солженицына, — помогла мне тут Фенька.
— Вот именно! — радостно подхватил я. — Такие люди! Такие имена! Звезды! Гиганты! Хранители тайны и веры! Вы радоваться должны за меня, если вы мне друзья, а не упражняться, простите, в плоских остротах.
Фенька захохотала:
— Я же вам говорила, чуваки, что Велосипедов — битый мудак! Наш простой советский битмудила!
Она забарабанила каблуками по столу и захохотала еще пуще. Признаюсь, не очень-то я отдавал себе отчет в причинах этого оскорбительного смеха и легкомысленных реплик, и все-таки я почувствовал какое-то облегчение: мне показалось, что Фенька уже не злится и что — еще минуту — и снова возникнет весь этот привычный цирк, скачки, куплеты, «месье Велосипедов», кружение и похабщина. Уже и «дивный огонь» начинал скапливаться там, где обычно.
Однако тут Валюша Стюрин резко высказался:
— Вы, Велосипедов, отдали свое неплохое имя этим скотам. Ваша фамилия возникла на Руси за двести лет до изобретения велосипеда, а сейчас вы с этим безродным сбродом, скопищем продажного народца, вы, человек нашего круга, блябуду, не ожидал.
— Может, вы и в самом деле, Велосипедов, возмущены поведением Сахарова и Солженицына? — спросил Ванюша Шишленко. — Может, душа кипит?
— Да с какой же это стати? — от удивления я просто развел руками. — Я чего-то недопонимаю, чувачки. Меня просто в райком же вызвали руководящие товарищи, ну как лотерейный билет выпал — сечете? — ну вот и пригласили участвовать — общественная жизнь, как же иначе. У нас и в институте всегда так было — на собрание всем колхозом и давай голосовать — за свободу Вьетнаму, против чешской контрреволюции. Вот вы не доучились, чуваки, поэтому и с общественной жизнью плохо знакомы. Я Брежневу написал про зажим молодых специалистов, вот меня и вызвали. Ты же, Фенька, сама мне сказала, пиши тому, у кого власть, вот меня и пригласили…
— И садовый участочек пообещали? — спросил Ванюша. — И жигулятины?
— Пообещали, конечно, что им стоит, там большие люди сидят, не нам чета, — сказал я. — Очень просто решаются такие вопросы.
— Говно, — сказал Ванюша.
— Кто? — опешил я
— Вы тоже, Велосипедов.
— А можно просто Игорь?
— Можно, Игорь. Вы теперь влились в общее советское говно, а значит, и сами стали — кем? Правильно!
Я взглянул на Феньку — с каким презрением и даже отвращением смотрела она на меня.
— Неправда! Неправильно!
Меня просто ужас охватил, какая-то приближалась катастрофа.
Стюрин встал:
— Простите, господа, но далее, блябуду, не считаю себя в состоянии дышать одним воздухом с предателем демократического обновления России.
Шишленко тоже встал.
— Ребята! — воззвал я к ним. — Да тут какая-то мизандерстуха получается! Да я же горячий сторонник обновления! Никого никогда не закладывал! Ну, подумаешь — подпись! Большая цена у этой бумажонки!
Фенька вскочила, бухнув своими сапогами.
— Ребята, останьтесь!
Останьтесь, останьтесь! — горячо поддержал я ее. — Сейчас за бутылкой слетаю, разберемся!
— А ты, Велосипедов, линяй! — вдруг завизжала она мне прямо в лицо. — Да ты понимаешь, на кого ты руку поднял, жопа?? На Шугера, на Солжа! Да если бы таких чуваков в России не было, нечего здесь больше было бы и делать, сваливать тогда, бежать всем скопом, пусть стреляют! Недавно у Людки Форс видела одно булыжное рыло из партийных органов, меня чуть не вырвало, чуваки! Да неужели вся страна такими булыгами покроется и ни одного Шугера, ни одного Солжа?! Нельзя с булыгами жить, нельзя больше с ними жить, как же вы не понимаете, что нельзя с ними больше жить, почему же никто этого не понимает, жуй, говны, не могу, тошнит!
Ну и дела, настоящая истерика на почве демобновления, и это у простой студентки Полиграфического института.
Когда я опомнился, вокруг светились высокие оранжевые фонари, пахло асфальтом, бензином, с Москвы-реки летело что-то детское, когда кто-то обидел почти смертельно, почти, почти…
Шипели шины, с шорохом шараша по Ленинскому вдаль, в аэропорт. Гудел Нескучный сад над скучною столицей. Вертеп ошеломляющий грачей под полною луной перемещался, и магазин «Диета» освещал своей унылой вывеской округу, скопленье пропагандных достижений, плакат за мир, за дело коммунизма, газетный стенд…
Вот оно, проклятое «Честное Слово», коллективный организатор с четырьмя орденами Ленина и двумя Дружбы Народов! Больше внимания рабочему контролю — передовица-кобылица, а вот и репортаж входит в раж — на предпраздничной вахте, снимки работяг на этой самой вахте, дыбятся, небось уже бутылкой запаслись, нормально функционируют, не боясь обвинений в предательстве демократического обновления России.
Я стоял, качаясь, перед газетным стендом, заполненный ощущением глухого и тяжелого кира, хотя не взял сегодня ни капли. Вот именно, вообразите — отчаяние, тоска, сосущая изжога, — а ведь не взято ни капли!
Что происходит ведь можно так представить дело что я продал свою подпись за жизненные блага за садово-огородный за жигули за Болгарскую Народную Республику с ее дубленками но разве было у меня в уме что-либо даже отдаленно похожее на сделку с этим уважаемым товарищем в райкоме как его фамилия да разве же могло простому советскому человеку такое в голову прийти что его в таком учреждении покупают ребята господа чуваки товарищи как я мог связать два подобных вопроса партия просит помощи вот она как же можно уклониться не этому нас учили Белинский и Добролюбов такова общественная жизнь и я хоть и рядовой технарь а все ж таки правила понимаю а ведь та моя собственная просьба к партии шла можно сказать параллельно без всякой связи ведь ты же мне сама посоветовала в конце концов я одинокий молодой человек никому не нужен моя мать до сих пор поет Сильву в провинциальном театре оперетты а у отца в огромном отдалении за Полярным кругом своя преогромнейшая семья я может быть из всей нашей компании самый несовершеннолетний несмотря на мои тридцать и если я чего недопонял так ведь можно же ж и поправить объяснить зачем же гнать так грубо так ужасно с такими истериками да разве же я Сахарову и Солженицыну плохого желаю я им только хорошего желаю крепкого здоровья отличной семейной жизни всего.