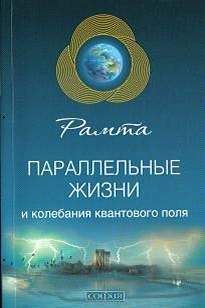Джеймс Олдридж - Мой брат Том
Снова они крепко прижимались друг к другу, и снова Том целовал Пегги, а она тихо стонала от сладкого томления. А в ликующем Томе было что-то от язычника и от атлета. Он ей потом говорил, что ему хотелось на вытянутых руках поднять ее к небу и так, высоко держа над головой, пронести до самой реки и бросить в воду, а потом прыгнуть следом. В конце концов, секс — это не всегда только секс.
Я, кажется, впадаю в несерьезный тон, но тут ничего не поделаешь: трудно через двадцать семь лет рассказывать о начале юной любви иначе, как с легкой усмешкой. Вероятно, на самом деле все это было гораздо острее, чем оно выходит в моем рассказе. Том в тот вечер, по дороге домой, готов был выть, рычать и кусаться от обиды на мир, загонявший его в темный угол, когда ему мчать бы по людным улицам со скоростью ста миль в час, плечом к плечу с Пегги, веселой и сияющей счастьем. Для Пегги, выросшей под сенью более деспотичной морали, чем наша, счастье не омрачалось тем, что это счастье надо было скрывать. Ей радостно было лелеять и холить родившуюся любовь, оберегать ее и втайне даже строить вокруг нее воздушные замки, и она пришла домой, полная тем новым и удивительным, что вдруг открылось ей в ее теле и в ее набожной католической душе, думая лишь о том, как бы не попасться на глаза матери, слишком многоопытной, чтобы не разгадать, что с ней случилось.
В сущности, не случилось ничего, просто они с Томом встретились, целовались и признались друг другу в любви, но Пегги смотрела на это иначе. Так велико было переполнявшее ее радостное чувство, что не могло не быть грешным, вот только оставалось неясным, в каком из семи зарегистрированных смертных грехов она повинна. Пегги уже слегка надоело исповедоваться по пятницам — входить в маленькую фанерную исповедальню, где всегда пахло конским навозом, потому что за стеной был лужок, где прихожане, приезжавшие к мессе из-за города, ставили лошадей и экипажи, и выкладывать отцу Флахерти список своих грехов за неделю; иногда оказывалось, что в этом списке представлены все шесть видов — шесть, потому что в седьмом, похоти, она ни разу еще не признавалась даже самой себе. Все ее грехи были отвлеченно-духовного свойства; к обыкновенным нарушениям законов страны дочь Локки Макгиббона настолько привыкла, что даже не считала их грехами, в которых следует исповедоваться.
Но Том — это уж явно был грех, только какой? Неужели похоть, седьмой, смертный грех, до сих пор еще ею не испытанный? Ей страстно хотелось в это поверить, но она не решалась. Ясно было одно: тут грех, в котором нужно исповедоваться отцу Флахерти. Но в пятницу, когда она шла в церковь, мысль об исповеди, все эти дни казавшейся лестным доказательством ее женской зрелости, вдруг испугала ее.
На каждом углу она меняла свое решение: «Скажу — не скажу — не смею сказать!» Но намерение не сказать, утаить само по себе было грешным, что еще запутывало дело. Так и не решив ничего, она вошла в кирпичное здание церкви и у ризницы свернула направо, к коробочке-исповедальне. Навстречу вдруг вынырнула старенькая миссис Лайтфут (какие такие могут быть у нее грехи в восемьдесят-то лет!). В церкви, под накаленной железной крышей, было нестерпимо жарко. Пегги склонила голову и услышала ласковый, заранее всепрощающий голос отца Флахерти.
— Слушаю, дитя мое.
Она забормотала привычные установленные слова:
— Ныне исповедуюсь всемогущему господу богу и сыну его, единородному Иисусу Христу… — и, следуя той же установленной формуле, созналась, что тяжко грешила словом, делом и помышлением. Но вот уже были произнесены все слова, предшествующие перечислению содеянных грехов, а она все не решила главного вопроса. — Лгала матери, — с запинкой сказала она, — завидовала сестре, не сдержала гнева против отца, а еще…
Отец Флахерти вздохнул. Ему было жарко и скучно. Он был добрый старик, любил посмеяться веселой шутке. Должно быть, ему до смерти надоели чужие грехи, и все равно он в конце концов отпускал любые — лишь бы покаялись в них, ибо кто кается, тот уже возненавидел грех свой.
И она сказала, что вечером в темноте обнималась и целовалась с молодым человеком.
Скрипнуло кресло: отец Флахерти выпрямился и откашлялся, прочищая горло.
— А что это за молодой человек, дитя мое? Нашей веры?
— Да, отец мой, — солгала она. — Это Финн Маккуил.
И сразу представила себе, как отец Флахерти бормочет за своей занавеской: «Пресвятая дева — и тут Финн Маккуил!»
Она чуть не прыснула, до того смешной показалась ей эта ложь, но через минуту ее охватило искреннее раскаяние, не только потому, что она солгала, но потому, что могла усмотреть в этом повод для смеха. То, что само по себе было не столь уж значительным прегрешением — ну, целовалась с Томом, — выросло в большой и тяжкий грех против бога и духовенства, и теперь уже-ни два шиллинга, опущенные в церковную кружку, ни целая сотня молитв пресвятой деве, ни предостерегающий шлепок, мысленно полученный от отца Флахерти, не в силах были успокоить ее совесть.
Зачем ей понадобилась эта чудовищная ложь?
Она сама не знала зачем, но, пораздумав, пришла к выводу, что только инстинкт самосохранения помешал ей назвать имя Тома. Разумеется, отец Флахерти даже ради общего блага не нарушил бы тайны исповеди, но так или иначе, отцу сразу стало бы известно, что его дочка целовалась с Томом Квэйлом. Впервые в жизни Пегги почувствовала себя и впрямь виновной перед отцом небесным.
Что касается Тома, то, на его протестантский взгляд, сама идея исповеди заключала в себе нечто кощунственное, но и ему приходилось нелегко в эти дни, потому что старый Драйзер терзал его рассказами об Испании, замученной, истекающей кровью в последних судорогах гражданской войны.
Старый Драйзер сам был католиком когда-то, во времена своей гамбургской молодости, и, как у всех вероотступников, у него словно осталась в душе открытая рана, которую растравляла любая низость, допущенная церковью в ее ослеплении своей мнимой непогрешимостью. Репрессии церкви по отношению к низшему духовенству Германии, которое выступало против Гитлера, невмешательство папы Пия XI, позволившее Гитлеру истребить миллионы евреев, — обо всем этом заговорили двадцать пять лет спустя, когда Рольф Хохгут написал свою драму «Наместник»; но всем Гансам Драйзерам и Томам Квэйлам суть дела была ясна еще в свое время.
Старый немец выучил Тома понимать связь между политикой и религией, и Том возненавидел политиканствующую церковь и политиканствующих священников не менее люто, чем он ненавидел Гитлера и Муссолини; но где-то подспудно то и дело шевелилась в нем мысль, что ведь это религия Пегги и духовные наставники Пегги вызывают у него подобные чувства.
8
Но он все-таки гнал от себя эту мысль. Оба они инстинктивно старались отгородиться от ненависти, накатывавшей со всех сторон и грозившей разлучить их, наивно веря в возможность защитить свой крошечный тайный мирок от внешних враждебных сил, готовых раздавить его в любую минуту. Но была ли такая возможность? Вряд ли, жизнь ведь не машина, которую в случае чего можно остановить и выскочить из нее.
Какие серьезные их ждут испытания, я понял в тот день, когда в Шайр-холле состоялся заключительный концерт конкурса певцов. Наши сент-хэленские девушки, Анни Флэгг и Дороти Тэйт, чудесно, вдохновенно пели одну за другой немецкие песни, входившие в конкурсную программу, и вот, когда Анни Флэгг вдруг перешла на Генделя[9] — «Si, rtai ceppi» («Истинная любовь пребудет вовеки»), — я увидел отца: он сидел в одном из последних рядов и, откинув голову немного назад, казалось, весь ушел в звуки.
Его появление на концерте было совершенно естественно: у нас вся семья музыкальная. Нам так и не удалось скопить денег на покупку автомобиля, но проигрыватель у нас был первоклассный и к нему целая фонотека оперного и классического репертуара (музыка для отца начиналась с Перселла). Сам он недурно, хоть несколько тяжеловато, играл на рояле, я тоже играл на рояле и, кроме того, немного на флейте, сестра — на скрипке, а Том — на гобое, точней сказать, на английском рожке. У Тома и голос был хороший, но пел он теперь разве только в буше. Там он горланил песни вроде «Дороги в Мандалэй», подражая манере Питера Доусона, но деревья, единственные его слушатели, были не способны оценить его искусство.
Итак, не было ничего удивительного в том, что отец пришел на концерт, но я хорошо знал, что когда он вот так слушает музыку, откинув голову и закрыв глаза, это означает, что он в то же время занят обдумыванием сложного юридического казуса. Что это был за казус на этот раз, мне стало понятно, когда Том по дороге домой упомянул, что Австралазийская компания страхования от огня обратилась к Эдварду Дж.Квэйлу за советом, как быть со страховой премией Локки Макгиббона — выплачивать ее или не выплачивать.
— Чего ж тут сомневаться, все же ясно, — сказал я.