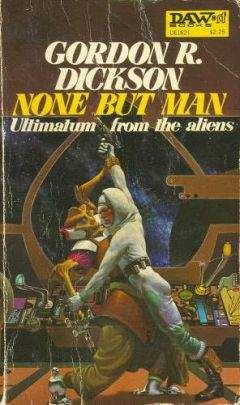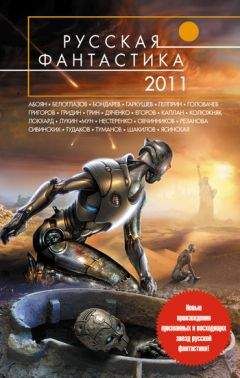Лев Александров - Две жизни
На дверях табличка: "Заместитель коменданта лагеря по политической части майор Л.Л.Гребенщиков". Кабинет, как кабинет. Стол, стулья, диван. На стене портреты Сталина и Берии.
— Посидите, Елизавета Тимофеевна, сейчас приведут. Вы пальто-то снимите, вот вешалка. Я мешочек сюда положу. Вам мешать не будут. Я выйду пока.
Вот и дождалась. Почти три года. Господи, только бы не расплакаться.
Елизавета Тимофеевна сидела неподвижно, напряженно. Спина прямая, руки на коленях. Кулаки сжаты, ногти врезались в ладони. За дверью послышались шаги, голоса.
— Проходи, Великанов, в эту дверь.
Дверь открылась. В дверях стоял Александр Матвеевич, рядом солдат, нет, не солдат, сержант с треугольниками в петлицах, дальше за ними Виктор. Елизавета Тимофеевна как-то мгновенно все увидела резко, ясно и запомнила навсегда.
Боже мой, как он похудел, какие морщины. И какой небритый. Совсем седой. И борода седая. Как он стоит, согнувшись, шапка облезлая в руке зажата, на телогрейке номер белой краской.
Александр Матвеевич смотрел на нее и молчал. Сержант подтолкнул его: — Что же ты, Великанов, не видишь, жена к тебе приехала. Чего стоишь, как пень? Радоваться должен, поздоровайся. Вот люди бесчувственные.
Виктор тихо:
— Ты, Сердюков, оставь. Майор сказал не мешать. Пусть одни посидят. Пойдем с тобой в коридор, покурим, майор приказал тебя «Казбеком» угостить.
Одни. Дверь закрыта. Он все стоял у двери. Начал говорить тихо, отрывисто, между словами паузы.
— Лиза, ты прости. Я не знал. Не сказали зачем ведут. Как же ты здесь? Почему?
— Здравствуй, Шурик, здравствуй, милый. Вот — приехала. Иди сюда. Скинь ты эту телогрейку. Дай я повешу. И отпусти шапку. Садись сюда на диван, а я напротив устроюсь. Нам спешить некуда. У нас целых три часа. Ну, успокойся, успокойся. Ты же сильный. Я и не видела никогда, как ты плачешь. Дай руки. Я подержу, согрею.
— Сейчас пройдет, Лиза. Это как удар. Я ведь твердо знал, что больше тебя никогда не увижу.
И шепотом:
— К тебе что, Володя зашел? Я же просил его только обо мне рассказать и тебя обо всем расспросить. И в это даже не очень верил. А он не побоялся, значит. Настоящий. Рассказывай все о себе, о Борисе. И что в Москве? Сажать вроде кончили. То есть сажают, конечно, новые сюда попадают, но совсем другие масштабы. У нас всякие слухи ходят. Будто дела пересматривают, освобождают.
— Ты знаешь, Шурик, конечно, времени у нас много, три часа, но не так уж и много. Хочешь, чтобы с меня начали? Тогда слушай, не перебивай.
Свой рассказ Елизавета Тимофеевна продумала заранее. За сорок минут она успела сказать все. Она ничего не скрыла и не приукрасила. И о Наде, и о трудностях при поступлении Бориса в университет, и о том, что никто, кроме Николая Венедиктовича, к ним не ходит и не звонит, и о том, что каждые полгода она подает прошение на имя Калинина о пересмотре дела и каждый раз получает одинаковый ответ: "оснований для пересмотра дела нет". Сказала она и о том, что пока ей не удалось устроиться на работу, хотя есть надежда, и что живут они на Борину стипендию и на деньги за его уроки. Что продают вещи и книги.
— Все не страшно, Шурик, выживем. Мы еще будем вместе, кончится все это безумие когда-нибудь.
— Мы, Лиза, не дождемся. Такая страшная сила, так много этой сволочи развелось, мы сами ее и вырастили. А потом, ты же видишь какой я стал. Конечно, теперь не то, что сначала, на лесоповале, но здесь, Лиза, ужасно. Нет, я выдержу, не сломаюсь, доходягой не стану, у нас так называют потерявших облик человеческий, согласных на любые унижения за лишнюю пайку, чужие миски облизывающих. Голод, Лиза, вещь страшная. Чем сильнее человек, тем глубже падает, если сломается.
— Что же я, Шурик, болтаю с тобой. Я же тебе всего привезла. И колбасу, и сало, и хлеб белый, только уже черствый, наверное, хотя я в газету заворачивала. И печенье, и конфеты, и даже компот в банке. Из одежды твой старый теплый джемпер.
— Подожди, Лиза, если я сейчас начну есть, не остановлюсь, и поговорить не успеем. Все равно вперед не наешься. Да и нельзя мне сразу сало есть, заболею, отучился желудок такую пищу переваривать. Разве что отрежь мне тоненький ломтик с хлебом, просто попробовать, вспомнить.
Господи, как он ест, будто молится, с благоговением, маленькими кусочками, под крошки ладонь подставляет.
— Знаешь, Лиза, сала больше не надо, просто хлеб с компотом. Я хлеб в компот накрошу, ложка у меня есть.
Она только сейчас заметила, на правой ноге ложка из-под обмоток торчит.
— Все, хватит, пока остановиться могу. Я с собой в барак возьму. Нельзя одному. Только дай я одну конфету съем. Я и думать об этом перестал О еде нельзя позволять себе думать. Хватит. Сказал хватит — и хватит! Ты не сказала, Борис еще пишет стихи?
— По-моему пишет. Но давно мне не читал.
— Ты скажи ему от меня, чтобы бросил. Он ведь пишет, что думает. Ты объясни ему, что рисковать нельзя. Он не мальчишка уже. Здесь и поменьше малолетки есть. Надо сидеть тихо. Нельзя им давать повод. Из Москвы лучше уехать. Кончит университет, уезжайте с ним в какой-нибудь тихий городок, подальше и поменьше. Пусть учителем в школе будет. Ты говоришь, он на биологическом? Вот и будет биологию преподавать. А то в Москве, когда опять подряд начнут (начнут, обязательно начнут, мы околеем здесь, кто станет лес валить?), вспомнят, что сын врага народа, и в первую очередь. Слышишь, Лиза, ты объясни ему.
— Я скажу, только он не послушается. И стихи писать не бросит. Он злой стал и упрямый. Нет, не ко мне злой, а к ним. Он повзрослел очень и становится на тебя похожим. И, ты знаешь, кажется всерьез влюбился. Про Сонечку уже забыл, какая-то однокурсница. Это я догадываюсь, он не знакомил еще. Давай сядем опять поудобнее, я руки твои возьму. И рассказывай. Я ведь совсем немного от Володи знаю, только о том, что сейчас.
После ареста Александра Матвеевича привезли в Бутырку, где он и провел пять месяцев до объявления приговора. За это время число заключенных в одиночной камере ни разу не опускалось ниже шестнадцати, так что одновременно лежать или сидеть не могли, стояли по очереди. Сперва Александра Матвеевича хотели объединить с другими руководящими деятелями из его наркомата и некоторых родственных учреждений в группу, подготавливающую вооруженный переворот с предварительным убийством Сталина, Молотова и Кагановича (были названы только три эти фамилии). Молодой следователь подолгу с ним разговаривал на самые разнообразные темы. Особенно его интересовали судебная процедура при царизме и годы, проведенные Александром Матвеевичем на царской каторге. С самого начала он объяснил Александру Матвеевичу в чем тому надо сознаться, каких членов контрреволюционной группы надо упомянуть в показаниях. Александр Матвеевич ни разу ни в чем не сознался. Следователь говорил, что все равно его осудят, что признание и раскаяние смягчат приговор, что, если Александр Матвеевич будет упорствовать, он будет вынужден передать его другому следователю, не столь доброжелательному. И действительно, в течение двух недель Александра Матвеевича водили ежедневно к другому следователю, постарше, истерику и садисту (никаких подробностей, кроме этой характеристики, Елизавете Тимофеевне сообщено не было). Все остальные члены «группы» во всем сознались; их показания с признаниями и разоблачениями Александру Матвеевичу давали читать. Всех их расстреляли. А Александра Матвеевича вернули молодому следователю, который начал совершенно новое дело о шпионской деятельности Александра Матвеевича в пользу японской разведки, которая завербовала его еще задолго до революции, когда он находился в Якутии, откуда, как известно, до Японии рукой подать.
— Понимаешь, Лиза, им для чего-то обязательно нужно признание. Они прекрасно знают, все — липа, дела сочиняют сами, они даже могут сфабриковать какое угодно признание и расписаться за меня. Но они этого не делают. Зачем-то им надо, чтобы я сам признался. Может быть это просто принятые правила игры. А может быть — критерий качества работы: какой же ты чекист, если не можешь сломать человека.
После того, как за два месяца добиться признания в шпионаже тоже не удалось, а все, что можно было рассказать о судебной процедуре и каторге при царизме, было рассказано, следователь сказал:
— Ладно, Великанов, запишем контрреволюционную агитацию и пропаганду. В деле у нас уже есть показания о рассказанных вами антисоветских анекдотах и историях, порочащих наших вождей. Для ОСО этого достаточно.
Через несколько дней Александру Матвеевичу зачитали решение ОСО, согласно которому он осуждается на десять лет заключения в исправительнотрудовом лагере по статье 58–10.
— Вот, вроде, и все, Лиза. Сюда везли в товарном вагоне полмесяца. Сперва было трудно, теперь ничего, жить можно. Ко мне в бараке хорошо относятся, это самое главное. И начальство не жалуется. Я на старости лет специальность приобрел. Неплохой счетовод, думаю и бухгалтером смог бы работать. А то ведь раньше у меня в жизни были только две специальности: революционер и ответственный работник. И, как выяснилось, обе ненужные и даже вредные.