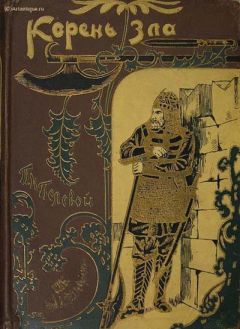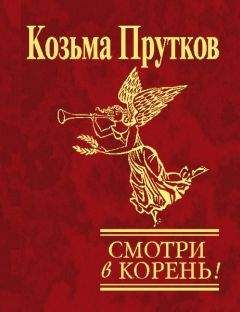Моник Швиттер - Память золотой рыбки
Когда я была молодой, я думала, что мне удастся перехитрить жизнь, выбрав профессию, которая позволит мне быть кем угодно. Мужчиной и монстром, невинным дитятей и убийцей, жертвой и повесой, царем и рабом, обманщицей и святошей. Ни жизнь, ни время не были властны надо мной. Я не подчинялась боевому расписанию, которое для меня, как и для всех нас, составила жизнь, — я переворачивала все с ног на голову, меняла, как мне было угодно, перемешивала, перетасовывала. Ах, как мне было жаль танцоров! Говорят, для них в тридцать лет все заканчивается. Некоторые дотягивают до сорока, но это вредит и их репутации, и чувству собственного достоинства, и они кончают в бесславии и одиночестве. Ну а что до актеров, и меня в их числе, они играют, покуда бьется сердце. Их жизнь и работа идут рука об руку. Пока есть одно, есть и другое. Пенсия? Я вас умоляю! Уход! Отставка! Актеры никогда не сдаются, ни за что, они остаются в этом мире, они смело принимают вызов. Не капитулируют перед болью, которую познают, когда теряют близких, не отступают перед лицом болезней. Они всегда играют. Выходят на сцену после операции под общим наркозом, с температурой, разбитыми коленями, поносом, надорванными мышцами, головокружением, учащенным сердцебиением. С онемевшими руками и ногами, в поту, когда щемит сердце. Их лучший друг — традиционная медицина, единственные личные знакомые после двух лет на новом месте — пара врачей, интересующихся искусством, обычно ортопед и хирург.
Двенадцать лет назад, когда мне было пятьдесят, у меня случился инфаркт. В пятьдесят! У женщины! Мне бы самой и в голову не пришло. Я этого просто не заметила. Какое-то время чувствовала ужасную усталость и общую слабость — и больше ничего. Думала, у меня депрессия. При профосмотре врач обнаружил у меня на сердце рубцы. Меня это совсем не удивило, я даже рассмеялась. “Покрытое рубцами сердце, ах, это как раз про меня!” Но врача это не развеселило. Он сказал, что дело очень серьезное. Что мое сердце, вероятно, уже несколько лет не получает достаточно питания. “Да-да, так и есть!”. Он посмотрел на меня с грустью. Он имел в виду, что к сердцу поступает слишком мало крови и кислорода. Видимо, мои коронарные сосуды необратимо сужались уже в течение нескольких лет.
На протяжении всей жизни страх перед выходом на сцену и страх, что я никогда больше не смогу играть, находились в равновесии. Ну, более или менее. Конечно, оно нарушалось — чуть ли не каждый день. Разумеется, эти страхи терзали меня, и тот и другой, давили на меня со страшной силой, ведь каждый из них весил не меньше сотни килограммов, но они уравновешивали друг друга. А теперь страх перед тем, что я не смогу играть, растет. Я стала забывчивой. Мои сузившиеся сосуды сказались не только на питании сердца, но и на способности запоминать. Врач подтвердил, что через пять лет болезнь может вызывать резкое ухудшение памяти. А прошло уже пятнадцать. Меня это никогда не беспокоило, нет, я вообще об этом не думала, я просто не обращала на это внимания. Пока получалось.
У меня всегда была прекрасная память. Я помнила дни рождения всех друзей, с которыми я играла еще в детстве, имена братьев и сестер этих друзей и даже их телефоны. Все логины, пароли и другие данные для доступа, которые у меня когда-то были. Все тайны, которые мне доверяли. Все блюда, которые пробовала, все места, в которых побывала, все слова, которые слышала. И конечно, несметные тысячи реплик, которые я за свою карьеру произнесла со сцены. Я разработала собственные методики для запоминания и упражнялась каждый день. Через несколько лет работы в театре я изводилась от чужих слов, которые переполняли мою память. У меня ведь не было методики, чтобы их потом забыть! Все ритуалы, которые я придумала, имели один изъян: мне некуда было девать тонны текстов, которые я затвердила наизусть. Не было ни свалки, чтобы их туда свезти, ни унитаза, чтобы их смыть, ни подарочной бумаги, чтобы их завернуть. Они, эти актеришки до мозга костей, всегда сидели тихонько в дальнем уголке, чтобы в самый неподходящий момент выпрыгнуть на передний план. Они засели во мне прочно, как холестериновые бляшки на стенках моих коронарных сосудов, так же необратимо — так мне казалось, пока я не начала терять память. Терять незаметно: абзац за абзацем, фразу за фразой, слово за словом, диалог за диалогом. Остались только обрывочные фразы, взявшиеся неизвестно откуда, которые я больше не могу ни связать, ни собрать воедино. “Кто это говорит? — часто спрашиваю я. — Эй, кто это? И о чем это ты говоришь? Что все это значит? К кому ты обращаешься, чего хочешь, на что жалуешься, чего добиваешься?” Остались только фрагменты текстов, отрывки, обрывки, обломки. Изрешеченная ткань. Как будто кто-то направил на них пулемет и выпустил всю обойму.
Вот и здесь такая же история. Я исписала семнадцать блокнотных листочков с обеих сторон. Тем временем я совсем забыла, что за вопрос вы мне задали».
Она достает из рюкзака бутылку, вытаскивает из нее письмо, которое написала своему спутнику жизни. Перечитывает, удивляется, откуда взялось столько цветочков на полях, рвет его. Она ухитряется сложить и свернуть семнадцать блокнотных листков так, что они проходят через горлышко бутылки, — вместо порванного письма. «Штефан... — Ее голос звучит хрипло, она откашливается. — Штефан, я забыла, что хотела тебе сказать. Но у меня еще есть время». Официантка подошла к столу и вопросительно смотрит на нее. «Извините, я просто бормотала себе под нос. Но раз уж вы подошли, принесите мне еще чашечку кофе, пожалуйста. И скажите, здесь можно курить?»
На причале в Витдюне[8] она наблюдает за куликами-сороками, которые попарно уходят в пикирующий полет, распахнув красные клювы, и размышляет о том, на что похож их крик: на вопль или на ликование. Она сосредоточивается на этом звуке и пытается повторить его, снова вызывая недоуменные взгляды и покачивание головой — на этот раз у группы молодых мамаш с детскими колясками. «Все-таки скорее на ликование», — к такому выводу она приходит и радостно улыбается мамашам. Вслед за ними она садится в автобус, который едет мимо маяка и через березовую рощу до остановки около реабилитационного центра, где все мамаши с колясками выходят. Теперь в автобусе только она и водитель; она выкрикивает название остановки, на которой ей выходить.
Дорога заняла тринадцать часов. Она открывает садовую калитку, ворча при этом по привычке: «До чего же она низкая!» Входную дверь перекосило еще больше, она поворачивает ключ в замке, чертыхаясь, тянет дверь на себя и одновременно толкает. Не снимая пальто, падает на кровать и лежит не шевелясь. Изучает содержимое шкафчиков на кухне. Садится у камина и выкуривает сигарету. Массирует распухшие колени. Размышляет, стоит ли снимать пальто. Засыпает.
В дверь стучат. Она резко просыпается. «Уже иду!» Встает, идет к двери, открывает. На пороге стоит полицейский с листом бумаги в руке. «Это вы госпожа Виттхаген? Ульрике Виттхаген?»
— Да.
— Сегодня ночью вас объявили в розыск в Берлине.
— Правда? И кто это меня потерял?
— Господин Штефан Рауш. Вы проживаете вместе с ним?
— Да, но почему меня объявили в розыск? Вот она я, здесь. Приехала сюда поработать, как раз сейчас в процессе, и мне необходим покой.
— Здесь написано, что у вас больное сердце и вы оставили дома жизненно необходимые лекарственные препараты.
— Это какое-то недоразумение, лекарства у меня с собой. Со мной все в порядке.
— Прошу прощения, что помешал. Я же из лучших побуждений. Сами знаете, с сердцем шутки плохи.
Она благодарит полицейского за заботу и желает ему хорошего дня. Он показывает вверх, на хмурое небо: «Сегодня лучше уже не будет».
«Штефан, о чем я все время думаю, так это о чувстве стыда, о котором я тебе никогда не говорила», — пишет она. После того как полицейский ушел, она еще какое-то время стояла у окна и курила, прислушиваясь к каждому шороху, пока опять не увлеклась своими мыслями. «Мне кажется, что все эти годы, во всех ролях, что я исполняла, стыд был моим верным спутником. Теперь, вспоминая об этом, я думаю, что лучше всего мне давались роли, которых я больше всего стыдилась. Я всегда пряталась здесь, в этом домике на острове, когда больше уже не могла, когда стыд овладевал мной и не давал вымолвить ни слова. Давным-давно, вскоре после рождения Ханны, я играла Ифигению. Но мне не хватало стимула. Я еще никого никогда так не любила. Я хотела быть с Ханной. Ни инфаркт, ни боль, ни сомнения, ни алкоголь не ставили мою жизнь — или точнее будет сказать, мое творчество? — под такую угрозу, как эта любовь, кроме которой мне ничего не было нужно. На первых репетициях я только рыдала и ничего не могла делать, никто не понимал, что со мной творится. Я страдала от любви. Потом я выпила первую чашку кофе, забыв о своем голодном ребенке, который ждал материнской груди, выкурила первую сигарету, потребовала стакан вина. И после этого плакала еще горше, потому что к любовным страданиям прибавились угрызения совести. Когда я вернулась домой, Альберт был очень расстроен моим поведением. Но назад дороги не было. Через несколько недель я снова просиживала в театре дни и ночи напролет. Дома почти не появлялась, днем уходила на репетицию, потом перебиралась в театральную столовую, ночь проводила в пивной. Сидела чаще всего одна, за отдельным столиком, напустив на себя мрачный, неприветливый вид, чтобы избежать нежелательной компании, ведь моя роль требовала одиночества. Я уже тогда была полной. И ужасно стыдилась своего тела. Несмотря на это, как-то раз на репетиции я просто взяла и разделась. Это было невыносимо. Но что поделать. Моя Ифигения была обнаженной. Мне было жарко, мне было холодно, мне было тесно, сердце стучало как безумное, и все мое существо словно кричало: “Прочь отсюда, прочь! Хватит! Выключите свет!” Я хотела исчезнуть. Навсегда. Просто исчезнуть, раствориться в кромешной тьме или взмыть в колосники. От стыда я рыдала прямо на сцене, каждый день с новой силой, и слезы все не убывали, потому что, повторяя эту роль раз за разом, я никак не могла свыкнуться с ней, и ничто не приносило мне облегчения. Однажды я репетировала втайне ото всех, одна, ночью, здесь, на этом острове. Разделась догола и под проливным дождем пробежала всю дорогу через дюну до пляжа, а ветер дул мне в лицо. В ту ночь на пляже, нагая, под покровом темноты Ифигения не плакала. Но слезы — слезы были необходимы, это я поняла. А теперь? Теперь я играю Ричарда и сгораю от стыда, но этот стыд не заставляет меня плакать. Он только сковывает меня. И я ничего не могу с этим поделать. Когда на прошлой неделе я пожаловалась тебе, что не могу запомнить роль, ты поднял меня на смех. “Да ты уже всю мировую литературу наизусть выучила, — сказал ты мне. — Неужели в твоей памяти не найдется места еще для одной пьески?” Нет, не найдется. Даже для коротенькой строчки не найдется. А одного стыда недостаточно для того, чтобы играть, Ричард должен еще и говорить».