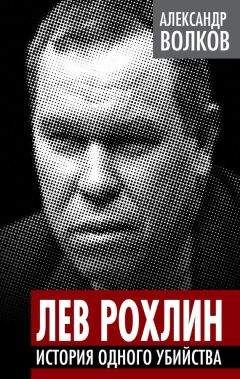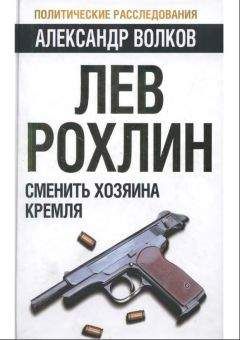Борис Рохлин - У стен Малапаги
Неслышный и мелкий, частый, густо дождит, такой мелкий, что игольное ушко, через которое кто-то не пройдёт куда-то, по сравнению с ним подобно триумфальной арке, арке генерального штаба, московско-нарвским воротам и всем прочим вратам истины и надежды. Туман, дымка, тихо, осенний послеполдень, середина дня, еще светло, час четвёртый, к тому же ехали домой на телеге, так сочинилась мной элегия о том, как ехал на телеге я, или рядом шли, потеряли лошадь, телегу, нет, вначале было слово, не то, сперва потеряли колесо, — это уж точно не докатится, — но наши, как сейчас помню, правое заднее, закрепили кое-как, без инструмента и отсыревшие насквозь от одуванчиков дождя, было это после третьей перцовки, правильно, после третьей — колесо, потом лошадь, после телега, но лошадь как раз вслед четвёртой, ещё говорили, что не стоит и хватит, и не потеряли вовсе, как-то сама выпряглась, да домой пошла, и телегу не теряли, заблудились несколько и стали в тупик спустя некоторое время, когда пятую перцовку увенчали. Естественно, поля, овраги, лёгхая холмистость, — по трезвости и не заметишь, — кустарник, древесность разных пород, листва не вся облетела, трудно не утратить друт друга, но нашли, а когда домой прибыли, — с запозданием, бесспорно, непростые дороги выбирали, или они сами выбирались, всё с препятствиями, — то она давно уж жевала, ужинала, нам, правда, тоже дали, но не сразу. Хорошо, шестая была во внутреннем, так взбодрились немного, от такой сырости и простудиться недолго, но обошлось. Дали псковские, пастушество, земледелие, буколики, георгики, деревни, селения, мызы, хутора, бухалово, орино, свиново, артерии и русла рек, колеи канав, квадратура круга, кавказский меловой, борьба с алкоголизмом, труды и дни забыты, всё в движении, в походе, поиске, переход через Альпы, битва при Гавгамелах, падение Антекеры и Алоры, всё, что движется, движется в одну сторону, где дают, страна плавающих и путешествующих.
Не пьём-с, — сказал Тоцкий Лавр. Так просто, что тут непонятного, двигайся вдоль живота и отлично будет, никаких осложнений… Где бастилия, хочу видеть бастилию, тюрьму народов, где валаамова ослица, где валаам, соловки, пароходы, катера, кемь с архангельском, изобразительные искусства и музей восковых фигур с ожившей куклой, волос на голове — вороново крыло, брови в разлёт, не брови — эскадрилья, монно я, а что монно, Ляпкин, Коробкин-Растаковский, Гибнер-Пошлёпкин, Муравьёв-Уховёрт-Апостол, что монно? Жена — чувствительно-интеллигентная женщина, и не без задора. Вдоль, что вдоль, всегда поперёк завинтить, натура такая, против течений, приливов, отливов, гольфстримов, разливов, розливов, интересно, позвонит кочерга сегодня, обещала; завтра, — сказала, и всё звонит, у каждой кочерги свои радости, выразилась недавно, тебе с твоей рожей только экибану составлять, мол, не лицо, а екибана какая-то, надо признаться, культурная шармант, но вызывает ассоциации, безусловно, в меру порченности. Смрад-с, смог-с, а где же рыжая Инга по фамилии Гребешок, фамилия по мужу, не смог-с, однако, беда поправимая, наверстаем, всё-таки нет ничего лучше обнажённой натуры, женской, разумеется, — когда-то очень давно сказал покойный чайник. Кому как, совсем забыто искусство развитого национал-социализма — первым делом, первым делом самолёты, ну а девушки, а девушки потом.
Осень, по деревьям узнаёшь сразу, листва ржавчиной тронута, чудесная пора, очей очарование, близко к инвалидному дому, дому для престарелых, одьшке и кашлю, запорошенности извилин, первому снегу, ознобу одиночества и позднему раскаянию.
«Чего-нибудь остренького хочется», — сказала артистка.
Коля — человек остроумный, за словом в карман не лезет, забрался в ширинку, — по лестнице приставной лез на всклоченный сеновал, дышал звёзд млечной трухой, колтуном пространства дышал, — вытащил, положил на блюдо, облицевал лучком и поднёс. Смеху-то сколько было!
«Мм-мм-мм», — сказал Профессор.
Все согласились, что Профессор, как всегда, прав.
Наконец-то перебрались, переселились, переехали, следует менять виды, пейзажи, лицезреть и обозревать, обогащаться окружающей натурой, ваянием, зодчеством. Простёрся небосвод, всерьёз и надолго, уверенный в своём постоянстве и неизменности. Согласно плану, проекту лёг на…, как в храмине пустой, тамплиеры, храмовники — орден, ордера архитектурные — дорический, ионический и пр., не всё вливать, однако выпили освежающей, бодрящей влаги, освятили место пребывания, новое поселение, первые капли богам, причастились. Оглянимся, повернёмся, — поворотись-ка, сынку, так-то лучше, — воспримем, что обещает окружающий ландшафт, есть ли намёк на предстоящее прошлое, почему не подняться вверх к истокам вопреки необратимости, превратности, вопреки течению, уносящему нас, как облако… как лёгкие ладьи… как тень. Приняли ещё — для храбрости — по стакану воскеваза, завьюжило листопадом и сиренью, случилось невероятное, но давно ожидаемое, от светила оторвался лоскут материи, начал скучиваться, свёртываться, скукоживаться, сжиматься, настали сроки, появились и разрослись регулярные и иррегулярные парки, Екатерининские и Александровские дворцы, садово-парковые ансамбли, боскеты и башни-руины, Большие капризы и Китайские беседки, Верхние ванны и Камероновы галереи. Опрокидывая, вознося лик к небесно-облачным далям, видишь мимоходом юношу, играющего в бабки, и ещё, играет в свайку, хорошо-то как, благодать, связь времён не прервалась, обнаруживается явно и незамутнённо, игры только другие, но это уж как водится. Или вот, — смотреть и смотреть, жизни не хватит, — ожившая басня, обрела новый смысл в приюте убогого чухонца, получила путёвку в жизнь, девушка с кувшином, ай, ай, ай, Перетта, Перетта, размечталась; урну с водой уронив, об утёс её дева разбила, дева печально сидит, чудо, не сякнет вода, изливаясь, дева, над вечной струёй, вечно печальна сидит. Не вздыхай, Перетта, не горюй, мы всегда с тобой, твоё здоровье, красотка!
Не то Софья Мурильевна, не то Софья Муреновна, плюнуть на всё, да и сплясать на собственных костях на сопках Маньчжурии, трансваль, трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне. Она принадлежала тому миру, где самым прекрасным созданиям уготована наихудшая участь, и, будучи розой, она жила столько, сколько живут розы — пространство одного утра. С кого спрашвать? Было — и нет. И было ли?
Скоропостижно проглянула мысль, а не отвлечься ли нам, не посетить ли что-нибудь этакое, отдалённое… Ведь прав был Макар Алексеевич вместе с Владимиром Фёдоровичем: ох, уж эти мне сказочники! Нет чтобы написать весьма приятное, усладительное, ну, например, весна в Бретани более мягкая, чем…, — неважно где, — пять птичек возвещают её: ласточка, иволга, кукушка, перепёлка и соловей, луга пестрят маргаритками, анютиными глазками, жонкилями (в первый раз слышим), нарциссами, гиацинтами (уже ближе), лютиками, анемонами (знакомые детства). Не огорчайтесь, это не всё. В изобилии имеется земляника, малина, фиалки, боярышник, жимолость, ежевика, птицы, пчёлы, дикий мирт, олеандр, фиги, яблони и…, пожалуй, хватит, всему надо знать меру. Обратимся к градостроительству. В наличии города: Фужер (что-то напоминает), Ренн, Бешрель, Динан, Сен-Мало, Доль и пр. Плиний называет Бретань полуостровом, глядящим в океан. Мы не знаем, не гарантируем, так говорит писатель, а мы верим писателям. Один из них даже добился у неба позволения сочинять после смерти, деревца столь маленькие, что своей тенью я закрываю их от палящего солнца, когда-нибудь они возвратят мне мою тень, шелестя и лепеча невнятно и смутно над когда-то бывшим.
Макар Алексеевич, конечно, прав. Но приятное и усладительное в жизни встречается, увы, в гомеопатических дозах, к тому же мы забыли о Римуле Форш.
Римуля Форш горит и не сгорает, везде, всегда, не зная усталости, пауз, промежутков и перекуро-перерывов, вид спортсменки на выданьи, — где ты, Подколёсин, надворный советник, тебе бы такую, не прыгал бы в окна, рискуя конечностями, — в хоре, танце, возрождается для игры в кегли, оживает и хорошеет в совместных мужеско-женских баньках, вот где счастья-то искать, не ошибёшься. Но не везёт, доверчивость губит. Женихов полно, славиков и Харитонов — изобилие, и всё культурные и образованные, по два, по три, духовность крупным планом, любовь к жизни неодолима, ташут всё, что плохо лежит, и хорошо — тоже, на глазах и без зазрения, чемоданами, купе, тамбурами, вагонами, натуры в высшей степени страстные и любят разнообразие предметов. Мадам Форш держится стоически, вызывает уважение и сочувствие, весь дом, что дом, улица, квартал гордятся ею. И есть чем. Римуля развивает поясницу и тазобедренный, лоно отсутствует, — легко было Геям и Лиям, — изгибы жизненной колеи; говорит, у меня там ничего нет. Хочется, конечно, ищет, не теряет надежды. Странствия Сихизмунды в поисках Персилеса.
Когда раздаётся звонок в дверь и на пороге стоит красивый, сильный, высокий, плечистый, мускулистый, с орлиным взором, череп густо зарос шерстью, хоть сразу стриги, пряди и вяжи, к тому же одет хорошо, я не спрашиваю, к кому, это — к Иринке. Если стоит несчастный, понурый, полуголый, тощий, кожа да кости, с голодными очами, скрюченный, улыбается стыдливо-заискивающе, словно уже украл, и стеснительно-робко мнёт одежду, обувь и пр., — не то инвалид, не то сбежал откуда, — это к Томке. Я никогда не спрашиваю, сразу кричу: «Томка, к тебе».