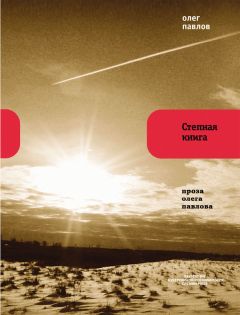Олег Павлов - Степная книга
Стрешневу не верилось, что где-то близко бушевали дожди. У них-то такого дождя проливного не было. Тогда прапорщики смеялись и на глазах выжимали чахлую воду из шинелок. А еще указывали взглядами на край земли, пугая, что насилу из той пропасти выкарабкались.
Потом повалил из машин путевой конвой. Лица солдат были грязными, а сапоги залеплены по голенища, похожие уж на валенки. Нестройным рядом они растянулись подле автозаков, закуривая и дожидаясь передачи. Стрешнев же с узбеками за воротами встал, куда чужим не было ходу. Овчаркам припустили поводки, чтобы свободней им было. И ведь твари они, а встали по местам, будто солдаты - буднично, зло, неспешно.
Когда из автозаков погнали заключенных, овчарки как по команде залаяли. Стрешнев оглядывал прибывших, думал о том, что вот погода все испоганила. И хотя в подсумке был для обмена табак с чаем, но что уж с ними поделаешь. Зеки тащили машины из распутицы и до смерти уморились, так что и языка не вяжут. Еле-еле равняют их овчарками в ряды, серых и старых. Молодых, которым и было что менять, маловато в этапе. Стрешнев заприметил одного, потому что он как-то живо вокруг себя оглядывался. Сразу видно, что живой, подыхать не согласный.
Захотелось быстрее в караулку - греться и допивать чай. Этап пришел, а чего дождался? Не пришел бы, так и меньше было бы маеты.
"Запускай! - прокричал рядом начальник. - И санитаров живей с носилками. Тут лежачие."
Зеки загудели и ряд за рядом схлынули с этапного отстойника на широкую каменную дорогу, какая была оторочена кручением из колючей проволоки и вела к больничному подворью. "Ща в бане будут париться, блядюги... переговаривался конвой. - Скоро, что ль, ехать? Не дорога, а навоз, всюду вязнешь. Треба зараз з товарищем прапорщиком поразмовлять, нехай накажет, шоб швидко ихали."
Начальник путевого конвоя накрикнул на своих: "Чего, суки, бродите? Залазь по местам..."- "Там лежачие, не вынесли еще. Носилки надо."- "Ишь ты, лежачие, а ну тащи их за шиворот!"
Конвой же не хотел мараться. Ждали санитаров. И когда явились расконвойники с носилками, то уж узбеков созывать стал, чтобы восвояси побыстрей убраться. А караульный начальник, умаянный, выговаривать принялся: "Ты на службе, ефрейтор, а не на гулянке. Так и жди моего приказа..."
Носилок было двое. И двоих зеков из кузова выволокли. Солдаты из путевого конвоя гаркнули, чтоб и оставшегося тащили наружу.
"А куда его, он же на ногах не стоит?" - "На землю вали, глядишь, не растает... "
И последнего вытащили за руки да за ноги, сложили на землю. Конвой снялся с мест и пошагал в машины, прячась от ветра и холода. Стрешнев распрощался с конвойными, кого по службе помнил. А когда санитары с носилками потрусили в зону, то остался подле последнего чахоточного стоять.
И так ему чудно было, что чахоточный на земле лежит, тогда как другие по ней сапогами ходят. А начальники рядом свару затеяли, будто воробьи из-за зернышка. Прапорщик путевого конвоя требовал у начальника лагерной охраны, чтобы он тут же расписался за прибывших - что доставили до места заключения. Но тот заупрямился по пустяку. Пускай, говорит, последнего заберут. Я, говорит, в службе люблю порядок.
Так они поссорились, но вместе ушагали в караулку греться. А Стрешневу указано было дождаться санитаров и дать знать, как поволокут зека на зону.
До больнички санитарам с носилками немного было пути. Но особо не будут гнать. А Стрешнева зло взяло, что расползлись все по теплым местам, а он лишь тут над чахоткой стоит. Хотя и сам узбеков от себя не отпускал. Отпуск был дан только овчаркам. А узбеки-то подле него, как истуканы, завороженные стояли. "Кеты ма? (*Пошли? (узбек.))" - каркнет в тишине один. А другие понурили головы, молчат, будто оглохли.
Больной же зек на земле лежал. Стрешнев на него поэтому глядел, как на землю. Дышит. Постанывает. И вдруг открыл глаза... Так ведь открыл глаза, а увидел - небо, глубокое да холодное, будто свежевырытая яма. Дыхание перехватило. Задрожал. А потом покосился тихонько на Стрешнева.
"Аааа..." - протянул, будто что-то понял. А Санька молчит. Видать, зек-то забредил. "Солдат? - спрашивает, а сам на небо мимо Стрешнева глядит. - А земля где же?" - "Лежишь ведь на ней. Приехал. Уже дома."
Зек полыбился слабо. И не верит, будто обманывают его. "Меня заберут, сынок?"- "Заберут. На носилках, батя, прокатишься. А чего это у тебя на шее? Крест? Из серебра? Может, на чай сменяешься?" -"В бога веруешь..." проговорил зек, скривясь от удушья. "Кто его знает... - сказал Стрешнев, приглядываясь к крестику, - Бог вроде есть, а вроде и нет. Так сменяешься?" - "Замерзаю я..." - простонал старик, и глаза его как-то просияли. А потом закашлялся, да жестоко так, что Санька склонился над ним из жалости. Вот же из такой жалости, из какой не обогреть мог, а пристрелить. То есть даже и замараться против воли кровью. Ведь лежит на сырой земле старик и видом своим мучает.
"Прямо так и замерзаешь, разве так бывает?" - "Человека я зарезал, и еще одного... Многих со свету сжил, - задышал старик. - Веришь?" - "А вот крест бережешь," - сказал Стрешнев. И без всякой усмешки сказал, а так, будто было старика за это жалко. И хотел ефрейтор подняться, а зек рукой цепляться стал, пальцами скрюченными.
"Холодно!" - "В больничке будет тепло." - "Знаю. Отнеси туда..." - "Не, уж полежи чуток. Это тебя санитары, их работа." - "А не бросят? Ты побудь со мной, тебе вот и крестик надо." - "Что, надумал, батя? Серебреца-то у тебя в кресте не больно, много не жди, не дам," - едва обрадовался Стрешнев. "Помнить будешь... Кха-кха... Что я отдал. Меня помнить." - "Ну ты... А может, и задаром отдашь?" - "Кхакха... Забудешь ведь..."- "Ну, и валяйся..." - сказал Стрешнев и легонько оттолкнул старика.
"Отдам, отдам... Кха-кха-кха... Пригнись, дай руку." Зек выпятил губы, будто что-то еще хотел сказать, но не хватало сил. Цепляется за Стрешнева, дрожит. И то ли от озноба, то ли подняться силится и тянет Саньку за собой. "Ближе, ближе... - хрипит. - Дай руку!" Надоело Стрешневу подле зека приседать. И ветер по земле поддувает. Тут и громовые раскаты раздаются вдали, а потом проносятся над головой, от страха голову пригибаешь, будто ей-ей расшибет. Узбеки грома испугались. И боязливо так на ефрейтора глядят, зовут в караулку. Ветер со степей поднялся и, как зверюга голодный, шинелку треплет, урча.
А зек все же приподнялся. За руку Санькину схватился. И глядит глаза в глаза. Стрешнев сбросить хотел - от старика воротило, будто б обернулся тот ящером, но как задышит он, задышит... Грудь вот клокотала, выдавливала что-то щемящее смертное из себя.
Думал Стрешнев, что слово важное сказать хочет, чуть не тайну ему одному открыть. А ладошку вдруг будто обожгло. Глядь Санька в ладошку-то свою, а там кровавый харчок. И у зека-то рот окровавился. Как выхаркнул чахотку, так и обмяк. И наземь затылком грохнулся. Корча пошла. А у Стрешнева харчок кровавый в ладошке. И он так его боится, что в кулаке сжал. Оттянул чужую страшную руку от себя, будто бы и лишился он этой руки. Побледнел и заплакал: "Мамочка, мамочка..."А сам не знает, куда деться. Душа врасплох, и ветер душит, то есть дует в разинутый от плача и нытья рот.
Тут санитары показались. И Стрешнев кулак от них в шинелку спрятал. Привиделось ему, что будто и разглядывают кулак. Хотели они зека класть на носилки, а ведь у того губищи в алых пузырях. Спохватились. Стали тормошить да спасать, а зек-то на поверку мертв "Вроде помер..." - говорит один другому. "Так ты еще пощупай." - "Не, чего и щупать - точно помер. Солдат, зови начальника, отошла его душа. Скажи - трупешник у нас!"
А Стрешнев и рад: закивал головой примерно, будто он прислугой у санитаров и только их распоряжения ждал.
- Товарищ начальник! - орет, не добегая до караула. И на глаза боится попасться. За чужие спины - шасть. Хорошо, что конвойники из автозаков на мертвого глядеть повылазили, то есть и было за кем спрятаться.
Дождь снова зудел, накрапывал - меленько, меленько. А начальники караула да конвоя остервенели, от них же расторопка и на солдат нашла. Солдаты, санитары, врачи из больнички под дождем столпились подле мертвого зека, и кто ни попадя, с кем ни попадя ругаются, чей это теперь груз. Конвойные орут, что они в Долинку живым доставили, а такого некуда им везти. Лагерные на дыбы - за воротами его труп, пусть отвечают, кто уморил по дороге. Сошлись было, что возможно смерть его оформить завтрашним днем, чтобы не портить никому картинку. Но тут новый спор, кто ж кому за это задолжал.
А тут дождь хлынул. Да так, что будто не дождь это, а снежная вьюга. Капли то кружат, то сыплют, то застят белым-бело глаза, не иначе зима вернулась.
А мертвый лежал - лицо чистое, грозой с неба омытое. И водица дождевая кропила в отверстый рот, будто он никак не мог напиться, а если и умер, то от жажды. И вот вокруг мертвого и заводило свой дикий хоровод ненастье, а он лежал спокойный и недвижимый. Будто вихрящийся дождь и прорывы ветра сквозь дождевой ток и бои грома были его душой. И душа эта металась исступленно над неподвижным телом и билась об него. Степь лежала вдали будто освежеванная. Черные кости саксаула торчали из земли. Мутные, буроватые от суглинка потоки стекали в ложбины. А сама земля выворотилась этакой нутряной кишкой рыхлая, нежная и парная.