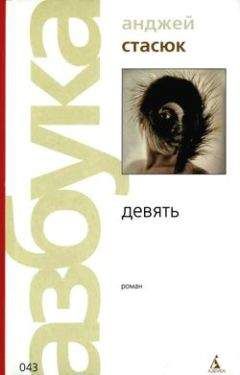Анджей Стасюк - Белый ворон
– Для меня в этом есть что-то нереальное. Все, что связано с Василем Бандурко, всегда было чуть-чуть нереальным.
Когда наконец его мамаша после долгих колебаний, поскольку мы были посланцами мира, который обижал ее сына, и уж в этом у нее никаких сомнений не было, впустила нас, мы вступили на сверкающий, поскрипывающий паркет прихожей и стали торопливо разуваться, всецело убежденные, что имеем дело с некоей сверхреальностью. Наши заурядные личности отражались в огромном зеркале, заключенном в резную раму. На полу стояла черная ваза с засушенными травами, цветами и колосьями. Из коридора вели несколько Дверей цвета мореного дуба. И запах, этот запах, в котором смешивались ароматы костела, музея и чего-то еще, быть может попросту тишины. В наших домах пахло едой, там царили шум, капуста, жир, материнские покрикивания на детей, на рассиживающих у телевизора отцов.
– Ну а что реально? – Костек с сожалением посмотрел на меня. – Чеченская мафия? А может, примас и епископы реальны? Или же первый со времен Пяста Колесника[8] король из мужиков, облаченный во фрак? Ну скажи, скажи.
– Что я тебе могу сказать? Что мы два призрака? Что пьем призрак водки? Успокойся. Меня совершенно не тянет ни на философию, ни на поэзию. Срать я на это хотел.
– Всем насрать на это. Дай сигарету.
– Пошли на улицу. Тут курить нельзя, – сказал я и тут же подумал, что жаль будет, если сопрут наши рюкзаки, потому подошел к буфетчице, дал ей десять кусков и положил рюкзаки к ней за стойку.
Оба перрона были пусты. В жизни не видел ничего столь пустого. Сыпучий, мелкий снежок образовывал миниатюрные полукруглые сугробики. Вокруг ни живой души. Мы обошли здание и укрылись в нише с расписанием поездов. Прикурить удалось с третьей спички. Два фонаря освещали кусок асфальта, а дальше была одна только тьма. Железный грохот вагонов на сортировке звучал как отголоски войны или столкновения гигантских роботов.
– Нереально это, – бросил я не то Костеку, не то в пространство. – Эта темнота и этот грохот. Но утром все станет нормально.
– То, что завтра будет новый день, может звучать утешением, мой дорогой, только для дураков. Для приверженцев здорового образа жизни, но не для серьезных людей. Не для тех, кто курит, пьет и бодрствует по ночам. Бодрствует вопреки общему убеждению, что ждать все равно нечего. Может, и нечего. Но это не повод не бодрствовать. Люди с мелкой душонкой… – Он не докончил и в темноте улыбнулся мне, потом приобнял за плечи, и мы возвратились в буфет, чтобы повторить маневр с чаем и «Выборовой», а на черных часах было 21.31.
Женский голос объявил о прибытии «скорого» на Краков, и не успел он отзвучать, как мы увидели в окне вереницу освещенных вагонов. Минуту спустя в бар вошли люди, человек пять, а может, семь. Темные, закутанные фигуры, неотчетливые, словно их облепляла темнота. От них веяло морозом.
Я отпил глоток чая и решил поговорить с Костеком напрямую. Я был уверен, что он знает гораздо больше, только не хочет сказать. Был уверен, что Бандурко выложил ему свой таинственный план. Для нас – разглагольствования, высокопарное бредословие, да вообще он мог нести нам что угодно, потому что нас объединяло прошлое, каковое мы, осознанно или нет, старались сохранить. Но Костеку он обязан был сказать что-то посущественней, поосмысленней трепотни о вечном возвращении, Вавилоне и «Макдональдсе». Костека интересовала реальность, а не наши связи, наследие общей песочницы. Его игры происходили в другом месте.
Я развалился на стуле, вытянул ноги и сунул Руки в карманы брюк. Дождался, когда Костек соизволит обратить на меня свой взор, и пальнул из главного калибра:
– Расскажи мне все. Все, что знаешь.
С минуту он без всякого выражения смотрел на меня. А потом принялся производить все те действия, какие производят люди, старающиеся выиграть время. Заглянул в стакан, поднес его ко рту, отставил, сплел пальцы рук, расплел, почесался и, если бы не перечеркнутый охнарик на стене, выиграл бы еще с полминуты.
– А что ты знаешь?
– Ничего. Ничего, кроме того, что уже говорил тебе. Ничего, кроме тех бредней о каникулах, игре в скаутов и невидимых лесовиков.
– Ну ладно. Пошли покурим.
И мы вышли, потому что в темноте легче разговаривать. Ниша ждала нас. Мы потратили несколько спичек. Костек глубоко затянулся.
– Хорошо. Расскажу тебе все. Он хочет умереть. Хочет скрыться здесь в горах и не вылезать оттуда. Скроется, будет бродить, а потом сделает что-нибудь такое, что его станут искать. Не важно что. Может, ограбит банк, а может, провозгласит собственное государство.
– Сейчас? С нами?
– Возможно, еще не сейчас. Он говорил о весне. Сейчас зима. Все видно как на ладони. Каждый след.
– Так на кой хрен тогда он потащил нас сюда? Зимние маневры?
– Так и быть, скажу. Он хочет найти оружие.
– Господи, оружие… – ахнул я и почувствовал, будто попал лет на пятнадцать – двадцать назад, мало того, лечу в прошлое, как сериал, который крутят с конца. – Что ты несешь, Костек? Найти оружие? Где? В кустах?
– Ты же сам мне рассказывал про бункер. Василь утверждает, таких мест много, и уверен, что обязательно найдет…
– Чье оружие? Кто его спрятал? Брусилов?
– Не строй идиота. В сорок седьмом УПА[9]уходила. Они еще постреливали, но уже думали, как свалить на Запад. Ну и прятали, что было можно. На будущее.
– Но самостийная сыграла с ними шутку. Она начинается за добрую сотню километров отсюда. Погоди-ка. Бандурко сказал, что знает?
– Точно не знает, но он утверждал, что, если посидим тут недельку-другую, найти удастся.
– …Недельку-другую, – пробормотал я. – Боже милосердный, Тарас Чупрынка, педик и бывший пианист, игравший классическую музыку. Паранойя какая-то.
– Может, да, а может, нет. Ты спросил, вот я тебе и рассказываю. И никакой не Тарас. Речь вовсе не о том. Для него главное одно – чтобы его убили. А все остальное…
– А заодно и нас? Смерть Сарданапала, так что ли?
– Но ты же можешь вернуться. Прямо сейчас. Поезд. Краков. Варшава.
И тут я понял, что Костек тоже чокнутый. Точь-в-точь как Василь. Он бросил сигарету в снег и не оглядываясь двинулся в сторону белых огней перрона, и я пошел за ним. А что еще я мог сделать?
На станцию въехал двухэтажный поезд, ведомый паровозом. Бар опустел. Мы взяли еще по чаю. Я притащил рюкзак и долил в стаканы спирта.
– Твою мать, тут в самую пору напиться. Именно напиться, потому как повод самый подходящий. Это даже сходится. Спирт и автомат, алмаз и пепел. У Василя в доме стоял большущий такой телевизор. Мать не выпускала его из дому. Вот он сидел и смотрел телик. Мы все эти фильмы обсудили и переобсудили. И «Четырех танкистов», и Клосса, и какие там еще были. А он сидел дома, и ему не с кем было их обсудить. Телевизор и фортепьяно. Фортепьяно и телевизор…
– Не напрягайся. Поговорим серьезно. – О-о, голос Костека звучал серьезно, серьезно, как не знаю что.
– Ну что ты еще хочешь сказать? Пусть бросится на рельсы. Может, закроют семафор. Пусть утопится, вдруг кто-нибудь его спасет. Пусть… Каждый день кто-то совершает что-то подобное. Если человек опротивел самому себе, это в порядке вещей.
– Василь не хочет покончить с собой. Он хочет умереть. Тут есть определенная разница.
– Ну так пусть отправляется в Албанию или к чукчам, они тоже скоро выпустят собственные почтовые марки.
Костек смотрел на меня как на человека, с которым нет смысла разговаривать. Как на контролера в поезде или на свидетеля Иеговы в прихожей. Черная стрелка с тихим стуком отрубила голову двадцать третьей минуте одиннадцатого часа. В бар вступили румыны и разбили лагерь.
11
День тогда был дождливый. Наши бурые мокрые кеды выглядели на плетеном половике как кучи грязи. Василь звал нас из глубины дома, и его мать указала нам на лестницу. Лестница скрипела. Мы шагали через две ступеньки, не то чтобы не без спешки, а скорей, оробев от тишины этого дома. Василя мы обнаружили в комнате в конце коридора. Пол там не скрипел. Его милосердно покрыли красным ковром.
– Ну, ребята, здорово, что вы пришли, просто страшно здорово!
А с нас как-то спала вся оторопь. Мы вновь призвали свои мужественные, насмешливые, презрительные мины, подошли к широченной кровати и небрежно пожали розовую, потную ладонь Василя. Резной письменный стол черного дерева не произвел на нас впечатления. Равно не произвели впечатления ни добрая сотня книжек в шкафу, ни два пухлых, мягких кресла, ни стоящий у кровати телефон; мы их презрели точно так же, как и самого Василя. Подействовали только два серебристых ящика на низком комоде, настоящий «Филипс» с усилителем, и две звуковые колонки у стен.
– Работает? – равнодушно поинтересовался Гонсер.
– Ясное дело, работает. Хотите послушать? Пластинки внизу. Я-то не очень могу двигаться…
Малыш присел на корточки и как бы нехотя, словно это были гибкие «звуковые письма» по три пятьдесят в зеленом киоске на Ружицкого, принялся перебирать глянцевые конверты.