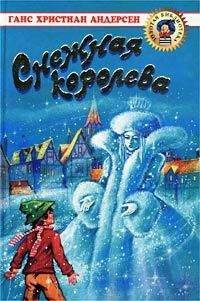Януш Вишневский - Молекулы эмоций
К некоторым книгам я не позволяю прикасаться даже самым близким. Чтобы они случайно не поверили их лжи. После третьего остались только эти книги. Он писал в них о большой любви, а в конце оказалось, что все это — выдуманные истории о несостоявшейся любви к самому себе. Отец никогда не стал бы читать мне сказки, которые так заканчиваются.
Четвертый. Иногда я ему верю даже во сне. В его сне. Пока нам еще снятся сны. Время от времени, когда я засыпаю в одной комнате, он напивается в другой. Мы засыпаем в двух комнатах, на двух постелях, в разных местах, в одном мире. Я не пытаюсь с этим бороться. Когда алкоголь не может облегчить его состояния, он ложится на пол возле моей кровати. Иногда он приползает туда, израненный одиночеством наших тел. Говорит, что только рядом со мной это одиночество обретает смысл. Я ему верю. Верю даже тогда, когда он называет меня ее именем, видит, вместо моего, ее лицо. Во сне, пока мы видим сны. Он прикасается — нет, не ко мне, а к тому, что потерял. А может, дотрагивается до того, что не приснилось нам обоим. Я позволяю. Потом рассказываю ему то, что никто другой никогда не услышит. Потому что, когда он исчезнет, я все забуду. В отместку. Нет лучшего способа отомстить, чем стереть из памяти.
Все четверо — отцы, у всех — дочери. Мы все по-прежнему ходим друг мимо друга. В чужих городах, на улице, на вокзалах, в аэропортах, парках, на пляжах и в книжных магазинах. И только иногда встречаемся в закутке моих мыслей. Все происходило случайно. Таково было стечение обстоятельств. А может, даже стечение совпадающих обстоятельств. Так продолжается почти четыре года. Я все больше скучаю по себе. По той чистой, по-детски наивной, какой была четыре года назад. Я хочу все начать с начала. Найти место для себя. Или для следующих четверых…
Перевод О. Чеховой
Обряд инициации / Inicjacje
Недавно я говорил о сексе с моим немецким коллегой. Точнее — о сексуальной жизни его шестнадцатилетней дочери, которая в начале августа отправляется на каникулы в Грецию со своим восемнадцатилетним бой-френдом. По нашему мнению (мой коллега — одержимый страстью к математике преподаватель физики в одной из франкфуртских гимназий), «практически маловероятно», что в течение двух недель на Крите его дочь будет проводить вечера в гостиничном номере, играя в шахматы или ведя беседы об античной культуре со своим молодым человеком. Тем более что Лаура не умеет играть в шахматы. «И хотя я оплачиваю поездку, мне неизвестно, будут ли в номере две кровати», — жаловался встревоженный и беспомощный отец. Я спросил, обсуждал ли он это с дочерью. Он покачал головой. «Что я мог ей сказать? Что в ее возрасте "играл в шахматы" в палатке, когда мы ходили в походы?! Они — другое поколение и свой "первый раз", эротику, открытие женственности переживают гораздо раньше и совершенно иначе». Мне запомнился его шутливый комментарий в конце нашего разговора: «Когда я во время урока показываю опыты с электромагнитным полем, то никогда не знаю, что вызывает сладкие улыбки на лицах учениц за первыми партами — восхищение моим экспериментом или действие магнитного поля на металлические колечки в интимных местах».
Когда я открыл женственность? Поначалу — в ту пору я, разумеется, не соотносил ее с этим словом — женственность ассоциировалась для меня с длинными ресницами, застенчивостью, румянцем на щеках и цветным пеналом в ранце. И еще с плачем. Меня всегда удивляла и восхищала смелость одноклассниц в проявлении чувств. Уже тогда я находил это очаровательным.
Первая эротическая фантазия меня встревожила. Я украдкой поглядывал на растущие — кажется, это было в восьмом классе — груди одноклассниц, и чем больше они росли, тем казались недоступнее. В те времена не было канала MTV и рекламы белья на улицах, а телесность, связанная с эротикой, сводилась к «непристойным» и мрачным фильмам Бергмана, которые разрешалось смотреть с восемнадцати лет. Эротика для меня имела больше общего со стихами, чем с лифчиком или стрингами. И так было довольно долго.
В пятнадцать лет я поступил в мужскую школу. Там девушек не было, и их отсутствие привело к тому, что мы начали идеализировать женщин. Мне исполнилось семнадцать, когда я впервые коснулся губами женской груди. На девочке был толстый синий свитер, а под ним — белая плиссированная блузка и лифчик. Свитер пах стиральным порошком «IXI», и мои губы от ее кожи отделяли три слоя ткани. Но для меня это было сильнейшим переживанием. Девочка потом присылала мне чудесные письма с отпечатками губ (предварительно накрашенных помадой матери), внутри их контура она писала мое имя. В постскриптуме всегда оказывались стихи Павликовской-Ясножевской.[12] Некоторые я до сих пор помню наизусть. А вот какие страстные чувства тогда испытывал, совершенно не помню. Она бросила меня через несколько месяцев ради другого. Больше всего я жалею, что в отчаянии сжег те письма. Сейчас мне кажется, что вместе с ними сгорела моя первая настоящая любовь. Впервые я осознал себя мужчиной только 28 июня 1983 года. И снова это было скорее романтическое, нежели чувственное переживание. В тот день родилась моя дочь Иоанна. Мужественность в моем понимании имеет мало общего с вожделением. В античной мифологии ее олицетворением является отцовство. У примитивных первобытных племен торжественный обряд инициации чаще всего был основан на признании способности быть отцом, а не совокупляться. Рефлекторное наполнение пещеристого тела полового члена кровью (эрекция) вызывается присутствием в крови удивительно простого химического вещества (цГМФ — циклического гуанозинмонофосфата) и не имеет ничего общего с мужественностью. Более высокая, чем у человека, концентрация цГМФ в крови (в состоянии сексуального возбуждения) наблюдается не только у эволюционно близких нам горилл, макак и карликовых шимпанзе бонобо, но также у хряков и летучих мышей.
Культу «первого раза» придают чересчур большое значение: под напором статистических данных он лопается подобно тому, как разрывается девственная плева. Согласно данным уважаемого Института Кинси[13] (Блумингтон, США), только восемь с половиной процентов женщин связали свою жизнь с мужчинами, с которыми пережили свой «первый раз». И лишь неполный один процент из них считает этот «первый раз» «событием исключительной важности». Малюсенький неполный один процент! Чем дольше я живу, тем более важным мне представляется мой «последний раз».
Насколько велико будет наслаждение, напрямую зависит от продолжительности так называемого времени ожидания. Поэты с пафосом называют этот период тоской. Зависимый от наркотиков торчок, который, выйдя из тюрьмы, вкалывает себе первую дозу героина, переживает высочайшее наслаждение, полностью схожее — как показывают исследования нейробиологов — с оргазмом. Это вовсе не означает, что он будет молиться на свой шприц или посвятит ему эротические стихи. «Получение» наслаждения, с моей точки зрения, — отнюдь не детерминанта феномена любви. Самое важное — прикосновение.
Жажда прикосновения — главнейшее из всех основных желаний. Причем с давних пор, как следует из работ историков эволюции. Homo sapiens отличается от других представителей животного мира только тем, что о первом прикосновении, равносильном обряду инициации, он пишет стихи и научные труды, либо посвящает ему оперы и симфонии.
Отец Лауры, хотя и обладает этими знаниями, собственным опытом и родительской интуицией, напуган, встревожен и, по правде говоря, беспомощен. Эротическое влечение всегда было неизбежной (и, к сожалению, наикратчайшей) фазой любви. Об этом писали греческие классики, об этом писал Фрейд. Очень красиво говорил об этом в своих стихах Ян Твардовский.[14] Оставляя в стороне духовную магию эротики, я как химик могу нарисовать (и восхититься ими) структурные модели молекул, появляющихся на рецепторах клеток, отвечающих за это состояние. У тех, кто утверждает, что это состояние им неведомо, имеется серьезный генетический дефект — либо они лгут. Потому что рецепторы у них есть точно. Рецепторы есть даже у безмозглых одноклеточных инфузорий. У Лауры их гораздо больше…
Перевод О. Чеховой
Измена / Zdrada
Она запаковала треть своей жизни в две дорожные сумки и ушла. Та сумка, в которую она покидала вещи, скопившиеся за последние два года, была практически пуста. Несколько фотоальбомов, стопка писем, связанных зеленой лентой, два букета засушенных белых роз, две пустые бутылки от вина, облепленные затвердевшим воском от выгоревших свечей, мешочек с ракушками, которые они собрали на пляже, когда вместе проводили отпуск в Португалии, продырявленный его зубами бюстгальтер, который был на ней в их первую ночь в гостинице во Вроцлаве, три книги, которые они читали друг другу вслух, несколько дисков, которые она знает на память, и старый дешевенький будильник, который каждое утро своим треском должен был начинать новый день, знаменующий начало их вечности. Они ведь должны были быть вместе вечно…