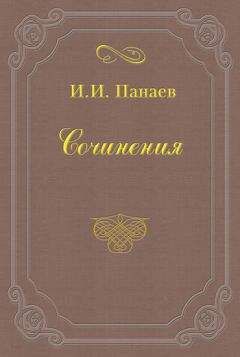Анатолий Андреев - Варвары из Европы

Обзор книги Анатолий Андреев - Варвары из Европы
АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВ
ВАРВАРЫ ИЗ ЕВРОПЫ
ПОВЕСТЬ
Настоящее зло — это интеллект, не способный разглядеть в уме своё будущее, ибо для интеллекта нет будущего.
I
Трагедия мужчины в том, что он не в силах вытравить из себя женщину. Трагедия женщины в том, что она не–способна испытывать трагедию.
Я смотрел на бледно–голубое с землистым отливом небо.
Будто брюхо доброго, беззащитного чудовища, оно было вспорото смертнобелым следом от реактивного истребителя с острыми крыльями и мучительно зарастало вспухшим шрамом, всё расплывающимся, ширящимся, чтобы, в конце концов, осесть белесым налётом на эту грязноватую синь, и так уже испачканную тонко размазанным слоем перистых облаков, который хотелось стереть, словно напластования пыли с замутнённых стёкол.
Перечёркивая застарелый рубец, белокипенной строчкой прошивал голубую мякоть ещё один страж мирного неба, отливающий белым металлом, словно юркая игла. Зловеще вышивал крестиком или ставил крест на ближайшем будущем?
От кого мы всё защищаемся и обороняемся, пугая неприятеля готовностью к внезапному нападению?
У меня был только один ответ, устраивающий меня: от себя, от собственной глупости. Летаем в облаках.
Солнце, уставшее за прошедшее лето, а возможно, и за весь тот период, пока безобидная обезьяна натужно превращалась в человека, отрекаясь от собственной безмозглой сути (а ведь был, был он, лиановый рай!), зависло на краю неба холодным костром. Оно словно решило не мешать человеку, научившемуся летать, вспомнить позабытую науку смирно вышивать крестиком.
Но человека, судя по всему, интересовало только одно: самоистребление.
Я, болея такой несовременной хворобой стремления к бесконечному, и потому, увы, бессмысленному, совершенству смысла (бисер, бисер!), целый день правил свою работу, посвящённую «Пиковой даме» г. Пушкина А. С. (Боже мой! Что мне Пушкин, что я Пушкину! Или, как сейчас принято коряво выражаться, где он, а где я. А я вот правил, словно в пику кому–то, добиваясь искомого совершенства путём концентрации противоречий.)
Я писал о повести, завершённой почти двести лет тому назад: «Пиковая дама, как известно, означает тайную недоброжелательность. Отчего же сия дама так не- благоволила «сыну обрусевшего немца» с исключительно нерусской фамилией Г ерманн (содержащей, помимо мрачного неблагозвучия для русского уха, ещё и заносчивую, с претензией на исключительность же германскую семантику Herr Mann, «Господин Человек»), инженеру, имевшему «сильные страсти и огненное воображение», которые, однако, не мешали ему следовать безупречно положительному, выверенному девизу «я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее»?»
Я мучился: верно ли я схватываю пушкинский замысел или безбожно перевираю всё на свете, приписывая его петербургской фантасмагории что–то своё, наделяя его героев какими–то неясными пока мне самому, но, безусловно, реальными чертами человеческой природы?
Я писал: «Большую и нешуточную игру затеял Германн, возможно, сам того не подозревая. Он ведь бросил вызов судьбе и решил переиграть её именно тем, что отказался от игры («случая», «сказки») как способа достижения благополучия. Строго говоря, он исключил не только капризы фортуны, но и саму злодейку- фортуну оставил не у дел, отобрав у неё излюбленное средство — ослепление страстями и сделав ставку на голый интеллект, расчёт, выведенный за рамки человеческого измерения. По возможностям влиять на жизнь человека Г ерманн стал равен Судьбе (чтобы не упоминать всуе иные горние инстанции), стал сверхчеловеком, «Господином Человеком».
После трудового дня, проведённого в таких высоких заботах (вот уж поистине парил в облаках), я спустился на землю — вышел на улицу, сунулся на свет божий, к людям (чему, помимо собственной воли, был отчасти рад, хотя, в согласии со своим настроением «ненавидеть всех, преступно равнодушных к «Пиковой даме», Пушкину и ко мне», желал избавиться от земного притяжения — унизительного на ту минуту, ибо оно делало меня «таким как все») — и медленно прогуливался вдоль Свислочи — только не по тому берегу, где на некотором возвышении расположен был памятник Пушкину (по этой возвышенности я вольно разгуливал в одном из своих романов, а именно: в романе «Для кого восходит Солнце?»; друзья этого романа, надеюсь, помнят), а по берегу противоположному, на который с любопытством взирал посаженный на ажурную скамью волей скульптора слегка изумлённый Пушкин («дар г. Москвы минчанам», по сообщениям газет).
Действие этой повести, как легко догадаться, происходит в центре Минска, расположенного, согласно новейшим географическим изысканиям, в самом центре Европы.
Так, гуляя, встретил я расцвет заката, насладился болезненной краткостью мига (края небес вспыхнули нежно–розово — и обратились в малиновые угли, которые быстро истлели в пепел), проводил его и настроился на то, что сейчас вот, сию минуту, на моих глазах померкнет небо, станут сгущаться сумерки (по–моему, это похлеще, чем «мороз крепчал»; но это к месту, и потому пошлость посрамлена; разве нет?), превращая день в ночь.
Набережная полна была народу — всё сплошь молодые и очень молодые весёлые лица, громкие разговоры под пиво, беззаботный смех: улицы утомлённых возрастом городов принадлежат молодым. Всё было замечательно; мешало лишь то, что молодых не волновало совершенство смысла. Впрочем, молодости хотелось простить даже этот порок варваров, который завтра поставит под угрозу будущее городов.
Вдруг внимание моё привлекла фигура молодой девушки в платье, выражения лица которой я видеть не мог (она также смотрела в сторону изнемогающего заката, её очаровательная черноволосая головка была развёрнута ко мне затылком, волосы — в тугой пучок: всё просто, мило), но почувствовал. Я не сомневался: оно было печальным.
И не ошибся. Люди, которые способны разглядеть в представшем их взору сиюминутном потаённое вечное, получая от этого своеобразное удовольствие, — всегда светло–печальны. «Глубоко сказать о сиюминутном — прикоснуться к вечному. Бездарно сказать о вечном — всего лишь плюнуть в лицо сиюминутному». Что ж, неизвестный автор XXI века, то бишь я, оказался глубоко прав.
Она медленно повернулась в мою сторону, почувствовав мой взгляд (именно так). Мне не надо было подбирать слов, чтобы описать впечатление самому себе (дорогая моему сердцу слабость, доставившая мне много горьких минут); они, подобранные в глубине сознания, сами слетели с языка: «свежее личико и чёрные глаза», прелесть которых подчёркивала печаль — правда, не мечтательная печаль, которую я так ценю в женщинах (и которую я, откровенно говоря, мечтал узреть), а печаль, как мне показалось, сиюминутная. Правда и то, что уже в следующую секунду она улыбнулась мне, как лучшему другу (так, увы, улыбаются люди, у которых нет настоящих друзей).
Но ведь мы выбрали платье, а не вездесущие джинсы (удобные и практичные, спору нет, я сам был облачён в джинсы); какая–никакая, но в глазах присутствует печаль, а не всеобщий дурацкий восторг по поводу наконец–то наступившего устройства мира, где смыслы перестали быть мерилом смыслов. Чего ж вам больше?
Эта минута решила мою участь.
Она спросила, как меня зовут (особенно вслушиваясь, как мне показалось, в произношение простой моей фамилии), потом поинтересовалась, который час (при этом, как мне почудилось, мгновенно оценив броскую марку моих дорогих часов, стоивших больше, нежели украшавшие мою квартиру холодильник, телевизор и диван вместе взятые, — подарок моего сентиментального разбогатевшего друга, укатившего на днях в Америку); после этого спросила, в каком районе Минска и на какой улице я живу.
— Это не в том ли доме, который находится на пересечении улиц ***, рядом с ***?
— Нет, в том, что находится рядом с упомянутым вами домом, — возразил я.
Очевидно, мои ответы показались ей убедительными настолько, что она, нисколько не интересуясь моим мнением, рассказала о себе следующее.
Звали её Эллина Задкова (что меня несколько смутило). Была она дочерью обрусевшей немки, в девичестве носившей фамилию Клаус. Чтобы избавиться от бесконечного остроумного сопоставления с Санта Клаусом со стороны добродушных русских, фройлян сочла за счастье стать госпожой Задковой, чего и дочери пожелала. Отец, похоже, был цыганом; более о нём ничего не известно, ибо брак её родителей был сколь неотвратим, столь же и молниеносен. Эллина, разумеется, считала себя русской, и одно время вполне разделяла насмешливое отношение к забавной рождественской фамилии Клаус. С годами это отношение стало меняться, и сейчас Эллина, выпускница инженерно–строительного факультета, уже практически созрела для того, чтобы почтительно думать о предках по линии матушки.