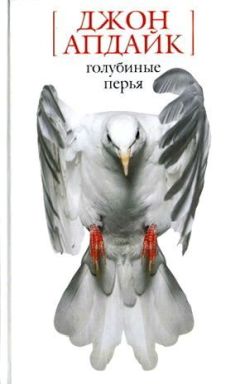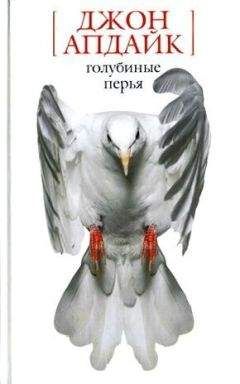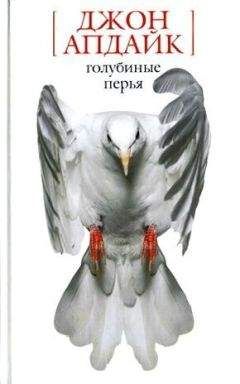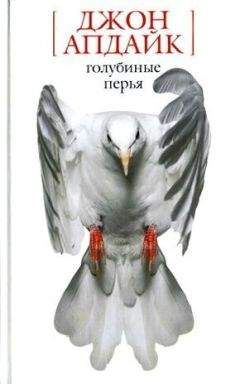Джон Апдайк - Голубиные перья
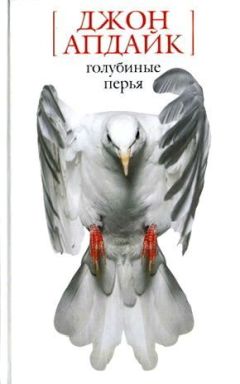
Обзор книги Джон Апдайк - Голубиные перья
Джон Апдайк
Голубиные перья
Когда они переехали в Файртаун, то всю мебель переставили, передвинули, поменяли местами. Красный диван с плетеной спинкой, краса и гордость их гостиной в Олинджере, оказался слишком большим для тесной, узкой деревенской общей комнаты, его изгнали в сарай и накрыли брезентом. Никогда больше не валяться на нем Дэвиду в послеобеденные часы, лакомясь изюмом и читая детективы, научную фантастику, Вудхауса.[1] Синее мягкое кресло с высокой спинкой корытом, которое много лет простояло в стерильной, с привидениями, гостевой спальне, глядя сквозь кисейные с ткаными горошинами шторы на телефонные провода за окнами, на конские каштаны и дома напротив, здесь воцарилось перед маленьким закопченным камином, единственным в доме источником тепла в эти холодные дни только что наступившего апреля. Ребенком Дэвид боялся гостевой спальни – это в ней он увидел, когда болел корью, черную палку с ярд высотой, она прыгала, слегка склонившись к нему, вдоль края кровати, и, когда он закричал, исчезла, – и сейчас ему было неприятно, что один из свидетелей его тогдашнего страха нежится у огня, в самом сердце домашнего очага, залосниваясь от частого сидения. Книги, которые дома пылились в шкафу возле пианино, наспех рассовали без всякого порядка по полкам – плотники сколотили их вдоль одной из стен под окнами с широкими подоконниками. Дэвиду в четырнадцать лет было легче поддаться потоку движения, чем создать движение самому; он, как и перевезенная мебель, должен был найти здесь для себя место и, чтобы как-то начать осваиваться, во вторую субботу их жизни на ферме взялся разбирать книги.
Их выбор вызвал у него глухую скуку, это были в основном книги матери, собранные ею еще в юности, когда она училась в колледже: хрестоматии древнегреческих драматургов и английских поэтов-романтиков, «История философии» Уильяма Джеймса Дьюранта, тома Шекспира в сафьяновых переплетах, с ленточками-закладками, пришитыми к корешку; «Зеленые дворцы»,[2] иллюстрированные гравюрами на дереве и в картонных коробках; «Я, тигр» Мануэля Комроффа,[3] романы Голсуорси,[4] Эллен Глазгоу,[5] Ирвина С. Кобба,[6] Синклера Льюиса,[7] Элизабет.[8] Вдохнув запах их поблекшего мира, Дэвид почувствовал пугающую пропасть между собой и родителями, оскорбительный разрыв во времени, которое существовало еще до того, как он родился. И ему вдруг захотелось окунуться в то, ушедшее, время. Из стопок книг, громоздящихся вокруг него на старых, вытертых досках пола, он вытянул второй том четырехтомных «Очерков истории» Герберта Уэллса. Когда-то Дэвид прочел в одном из сборников его «Машину времени»,[9] так что автор был ему немного знаком. Корешок красного переплета выцвел до розовато-оранжевого. Он открыл обложку, и на него пахнуло сладковатым чердачным запахом; а на форзаце незнакомым почерком была написана девичья фамилия матери – смелая, без наклона, и в то же время аккуратная роспись, в ней было так трудно отыскать сходство с торопливыми, валящимися налево ломкими каракулями, которые с замечательным постоянством разбегались по ее спискам покупок, расходным книгам и рождественским открыткам подругам по колледжу, все из того же смутно пугающего далека.
Дэвид принялся листать страницы, рассматривая сделанные в старомодной технике тушью рисунки разных барельефов, масок, бюсты римлян с глазами без зрачков, античную одежду, осколки керамической посуды из раскопок. Все это неплохо смотрелось бы в журнале, подумал он, вперемежку с рекламой и комиксами, а так, в неразбавленном виде, от истории скулы сводит. Шрифт был решительный, четкий, ясный, как в учебнике; пожелтевшие по краям страницы, над которыми склонился Дэвид, казались ему прямоугольниками покрытого пылью стекла, сквозь которое он глядел на картины нереальных, давно изживших себя миров. Они вяло двигались под его взглядом, он чувствовал, как к горлу подступает тошнота. Мать и бабушка хлопотали в кухне; щенок, которого они только что завели, «чтобы был сторож в деревне», забился под стол и время от времени начинал там крутиться, отчаянно царапая пол когтями, – этот стол в их прежнем доме накрывали только по торжественным случаям, а здесь они за ним и завтракали, и обедали, и ужинали каждый день.
Глаза Дэвида рассеянно заскользили по строкам, где Уэллс рассказывает об Иисусе. Никому не известный политический агитатор, бродяжка в одной из второстепенных колоний Рима времен Империи, по какой-то случайности, которую сейчас невозможно восстановить, он (это «он» с маленькой буквы ужаснуло Дэвида) не умер на кресте и, вероятно, прожил еще несколько недель. Это недоразумение легло в основу религии. Легковерная фантазия современников задним числом приписала Иисусу разные чудеса и сверхъестественные деяния; миф распространялся все шире, и наконец возникла Церковь, доктрины которой в основе своей противоречили простому, близкому к коммунизму, учению галилеянина.
Будто камень, который уже много лет с каждым днем все тяжелее давил на нервы Дэвида, вдруг разорвал их и рухнул вниз сквозь страницу Уэллса и сквозь сотни страниц лежащих в кипе книг. В первый миг его испугала не эта кощунственная ложь – ну конечно же ложь, ведь всюду стоят церкви, их страна была основана с благословения Господа, – его испугало то, что такому вообще было позволено родиться в человеческом мозгу. В какой-то точке времени и пространства возник ум, омраченный неверием в божественность Христа, и ничего, Вселенная не исторгла из себя это исчадие ада, она позволила ему богохульствовать и дальше, позволила дожить до старости, стяжать почести и славу, носить шляпу, писать книги, которые, если только в них правда, обращают жизнь в хаос и ужас, – вот что сразу же ошеломило его. Мир за окнами с широкими подоконниками – бугристый газон, беленый сарай, каштан в пене молодой зелени – казался раем, из которого он навсегда изгнан. Лицо горело, будто обожженное.
Он снова перечел этот абзац. В глубинах своего невежества он искал опровержений, которые бы отразили самодовольную атаку этих черных слов, и не находил ни одного. Каждый день в газетах рассказывают о воскресениях куда более невероятных, разъясняются самые фантастические недоразумения. Но ни из-за одного из них не строят во всех городах церкви. Дэвид попытался вернуться вместе с церквами вспять, пробиться сквозь их высокие горделивые фронтоны, сквозь бедные запущенные внутренние помещения к тем далеким событиям в Иерусалиме, и почувствовал, что его окружили беспокойные серые тени, столетия истории, о которых он не знал ничего. Опровержения рассыпались в прах. Разве Христос когда-нибудь приходил к нему, Дэвиду Керну, разве говорил: «Вот, вложи свои персты в Мою рану»? Нет. Однако его молитвы не оставались без ответа. Но что это были за молитвы? Он молился о том, чтобы Руди Мон, которому он подставил ножку и тот ударился головой о радиатор, не умер, и Руди не умер. Крови было много, но он всего лишь рассек кожу; его в тот же день выпустили из больницы с забинтованной головой, и он снова принялся дразнить Дэвида. Конечно, он бы и так не умер. Еще раз Дэвид молился, чтобы два разных военно-патриотических плаката, которые он заказал отдельно, пришли бы завтра, и они пришли, правда не завтра, а через несколько дней, но все равно одновременно, упали через лязгнувшую крышкой щель в двери, точно упрек из уст Господа: «Я отвечаю на твои молитвы так, как Мне угодно и когда Мне угодно». После этого Дэвид стал молиться о чем-то менее конкретном, чтобы ответ не превратился в нагоняй. Однако какое это пустяшное, смехотворное совпадение, его ли противопоставить могучему оружию знаний, которым владеет Герберт Уэллс! Оно лишь доказывает правоту противника: надежда на зыбкой песчинке возведет гигантское здание; там, где черкнули закорючку, она увидит слово.
Вернулся отец. Суббота была у него свободный день, но он все равно ездил работать. Он преподавал в школе в Олинджере и с утра до вечера суетился, делая какие-то ненужные дела с забавно заполошным видом. Городской человек, он к тому же боялся фермы и пользовался любым предлогом, чтобы улизнуть из дома. На ферме родилась мать Дэвида, она же и задумала ее выкупить. Проявив невиданную доселе изобретательность и упорство, она добилась своего и перевезла их всех сюда – своего сына, мужа, мать. В молодости бабушка трудилась на этих полях наравне с мужем, а сейчас она бестолково топталась на кухне, и руки у нее тряслись от паркинсоновой болезни. Она вечно всем мешала. Странно, но здесь, вдали от города, на восьмидесяти принадлежащих им акрах земли они постоянно теснились друг подле друга. Томясь своей неприкаянностью, отец нескончаемо спорил с матерью по поводу органического земледелия. Весь вечер, весь ужин напролет только и слышалось: