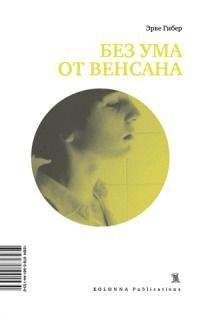Эрве Гибер - Путешествие с двумя детьми

Обзор книги Эрве Гибер - Путешествие с двумя детьми
Эрве Гибер
ПУТЕШЕСТВИЕ С ДВУМЯ ДЕТЬМИ
перевод Алексея Воинова
В оформлении обложки использована фотография, сделанная Эрве Гибером в Марокко в 1982 году во время «путешествия с двумя детьми».
Моим спутникам
I
Когда испанцы покидали это королевство, один из них попросил сына повелителя некой деревни или провинции уйти вместе с ним; мальчик сказал, что он не хочет покидать свою страну. Испанец ответил: «Пойдем со мной, иначе я отрежу тебе уши». Мальчик отказался. Испанец вынул из ножен кинжал и отрезал ему одно ухо, потом другое. И, так как мальчик повторял, что не хочет покидать свою страну, он, смеясь, отрезал ему нос, словно все это были лишь волосы.
Бартоломе де Лас Касас [1] ,
«Кратчайшее сообщение о разрушении Индий», 1552
Путешествие начинается в воскресенье, 14 марта 19... года.
Пятница, 19 марта
Когда Б. предложил мне отправиться в это путешествие, я представил мое тело в пространстве между пустыней и морем. Но самое главное, - и это доставляло особое удовольствие, - я представил некую опору для моего тела: оно стояло на горной дороге или на вершине дюны, между морем и пустыней, к которым поворачивалось той и другой стороной, оно возвышалось над обоими детьми на иных наблюдательных пунктах, расположенных ниже (в этом упрощенном пейзаже дети, видимо, пытались выследить появление крошечных животных среди песчинок). Самое главное, я представил небывалую одежду для моего тела: разумеется, не полуобнаженного тела в плавках, но тела, покрытого чем-то легким, касающимся самой кожи, и то безразличие, с которым на мое тело могли смотреть, какое положение оно бы ни принимало, никакой обман не пытался его обезличить, это было бы только голое тело в одежде, которое оставило бы эту одежду, чтобы при случае укрыться под простынями, и не было бы телом, сокрытым, спрятанным под одеждой. Стало быть, лен и хлопок, белое, просторное, что могло быть волнуемо ветром, ибо ни в коем случае жара не должна быть тяжелой, и несколько цветных пятен, которые вспыхивали бы на галстуке, шарфе или наброшенном на плечи свитере, несколько цветных пятен в речи, сомбреро. Тишина. (Кто-то пресек детские возгласы? Но нет, пусть у них будет возможность петь, пусть у них будет возможность смеяться). В самом начале мои размышления вытеснили присутствие другого взрослого в этом пейзаже.
Суббота 13 марта (ибо я в поиске предшествующих событий)
М., у которого я ужинал в этот вечер, мимоходом рассказал мне ужасную вещь из хроники происшествий: какой-то заурядный человек («они хуже всех», - говорит моя двоюродная бабушка, которой я рассказываю эту историю на следующий день), некий сантехник нападает на улице в Монпелье на трехлетнего мальчика, насилует его, затем душит. Потом он относит его тело к себе домой, показывает труп жене и двум своим детям. Он говорит: «Вот, что я натворил, вы должны мне помочь». Тогда вся семья засовывает тело в пластиковый мешок, и сын (я представляю, что ему лет четырнадцать, но на самом деле ему восемнадцать) получает поручение избавиться от него. Амортизационными шнурами он привязывает тело, искривив и измяв, к багажнику велосипеда. Едет по пустынной дороге вдоль пропасти. Он знает, что должен выбросить тело как можно дальше, но внезапно его тревожит какой-то треск за спиной: нога ребенка прорывает пластик и, посиневшая от сильного сжатия, высовывается и повисает в воздухе. Большой мальчик теряет рассудок и кидает малыша в яму, после чего едва прикрывает его листьями и землей.
Что нас - М. и меня - поражает в этой истории больше всего, так это принятие на себя всей семьей преступления отца, семейная солидарность настолько сильна, что в ней может раствориться даже труп (действие этого правила, на мой взгляд, подобно действию сока или кислоты, выделяемой насекомым, чтобы парализовать жертву перед тем, как ее сожрать, или после того, как ее наполовину сожрали). Но моя мать, когда я ей об этом рассказываю, моя мать, выступающая, тем не менее, за смертную казнь, почти не удивляется и говорит мне: «Ну, а если бы речь шла о тебе, если бы ты сделал что-то подобное, мы бы тоже пытались спасти тебя всеми средствами».
Четверг, 18 марта
Вместе с Т. я пошел купить свитер малинового цвета и другой, цвета лазури. Еще я купил черный шелковый галстук, на котором нарисован аэроплан. Вечером я посмотрел атлас, и на расстоянии, которое отделяло мои глаза от абстрактных линий, пролегли дороги, я представил себе пыль.
Воскресенье, 14 марта
Б. дал мне дневник человека, любящего детей. Иногда я его читаю, будто это учебное руководство, перед поездкой, прекрасно зная, что буду поступать по-другому. Атлас настоящей страны, в сторону которой я направляюсь: любовь и компания из детей. Этому человеку уже сорок лет, он живет у родителей и не умеет плавать. Каждый вечер он должен принимать поразительное количество таблеток снотворного, словно чтобы унять неутихающее желание, и все напрасно (когда он гладит ребенка по волосам, то с болью замечает, что голова-то его на это «не реагирует»). Влюбленный в исполина четырнадцати лет, он опрометью несется к могиле, он коллекционирует грязные детские трусики в склянках и волнуется, читая в газетной хронике о маленьком пастухе или о маленьком бербере, которого забросали камнями за то, что он, изнасиловав, убил самца пеликана.
Среда, 16 марта
Я был с племянником, - ему исполнилось тогда четыре или пять лет, - в кинозале, где показывали какой-то коммерческий фильм, как оказалось, запрещенный для просмотра детям до тринадцати, это был первый фильм, который видел племянник, мы лежали с ним на полу, он - между моих ног, я гладил его виски, я был готов закрыть ему глаза рукой, если на экране появится что-то непристойное, но больше спрашивал себя, мой ли долг закрывать ему глаза, и как раз в этот момент на экране, к которому мы были очень близко, возник голый мужчина с эрегированным членом, и я уже не мог удержать племянника, вид стоящего члена свел его с ума, захватил; привлеченный им, он поднялся, чтобы следовать за движениями актера, тот уже исчез с экрана, но продолжал быть видимым, хотя и приглушенно, на стене возле экрана, тогда племянник, которого мне не удавалось удержать, пошел лизать стену в месте, куда проецировалось изображение члена, но, как только он дотронулся до стены языком, голый актер совершенно исчез, и язык моего племянника оставил на стене след, словно то был ожог или прозрачная пленка. Снова забрав ребенка к себе, так как вокруг нас были люди, из-за неловкости чувствуя, что в случившемся есть что-то смешное, я дал ему легкий подзатыльник.
Воскресенье, 21 марта
Проснувшись утром и уже много дней не испытывая оргазма (может быть, я впервые отказал себе в этом рядом с Т., всегда мне его дарившим), я заставляю себя кончить, думая о ребенке. Но это будто не погружающийся, лишь едва касающийся песка якорь, скользящий и уводящий корабль в чужие края вслед за ветром (порыв моего наслаждения связан с образом взрослого человека), мой исступленный бред не перестает разоблачать ребенка, которого я себе навязываю, он удаляет меня от него, вместо того, чтобы приближать, он крадет его у меня и приводит меня обратно к основанию непристойного здания, переполненного уже созревшими телами, терпеливо возводимого мною с тех пор, как я научился испытывать удовольствия. Вернуться к ребенку, не обращая внимания на встречные ветра, сражаться против течения, выпустить из рук знакомые тела, словно гниющие фрукты, заменить их в тех же позах телами щуплыми, чахлыми, - отличная дрессировка, новый вид подготовки к поездке. Я зову обоих мальчиков, которые должны меня сопровождать, и я тесно прижимаю их к себе в углу, в одной из привычных галлюцинаций, позволяющей им не упасть, побелев, в обморок, или не расти, с головокружительной скоростью превращаясь во взрослых; в этом тайнике, в этой лишь намеченной пунктиром модели, в которую они должны войти, чтобы занять место старших собратьев, они стоят, их движения скованны, а я опускаюсь к их ногам, чтобы раздеть их и поцеловать голые лобки, ко мне вновь возвращается ощущение перед рвотой, и я наконец извергаю слишком долго сдерживаемый неумелый плевок почти зеленого цвета, совершенно и идеально детский.
Понедельник, 22 марта
Во время этой работы, расточающей образ взрослого человека, Б. должен следовать сходной, но противоположной дорогой: не выдавать детей за взрослых, а постоянно сопротивляться тому, чтобы принять ребенка за взрослого; идти с опущенной головой, ослепшими глазами, словно навстречу песчаной буре, каждая песчинка которой будто секунда жизни, удаляющая его еще чуть больше от объекта любви, означающая всю абсурдность, незыблемую нереальность, ибо каким же образом любовь истинная может развеяться с появлением на коже волос, с любой слишком заметной возрастной переменой? Б. держит ребенка в тисках неподвижности, ступора, как мастер по изготовлению монстров, он проклинает неумолимость окостенения, он бросается всеми возможными оскорблениями, он срывает связки и рвет маленький язычок красной плоти, болтающийся в горле, он даже вываливает наружу гланды, придающие слишком едкий вкус всем потам лихорадок. Он посыпает тело сахаром, покрывает его клубничной и карамельной пудрой. Он избирает любимого младшего брата, спящего у него на руках, чтобы опробовать бритву, и бреет ему не только вокруг губ, но и его ноги, его лобок. И, когда брат увертывается от бритвы, он отрекается от него.