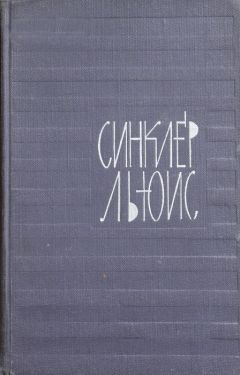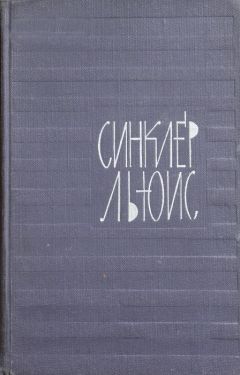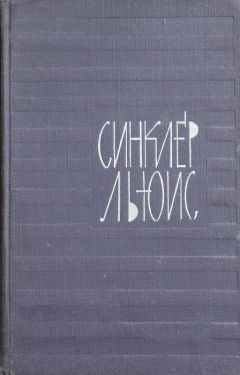Генрих Бёлль - Когда кончилась война
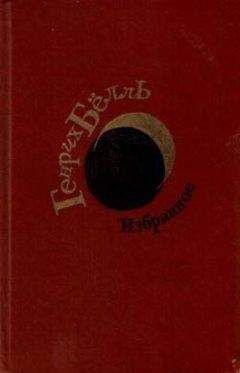
Обзор книги Генрих Бёлль - Когда кончилась война
Генрих Бёлль
Когда кончилась война
Уже совсем рассвело, когда мы подъехали к немецкой границе: слева – широкая река, справа – лес, глухой и темный, даже по опушке видно; в вагоне все притихли, поезд медленно полз по наспех расчищенному полотну, мимо разбитых домишек и изрешеченных телеграфных столбов. Сопляк, примостившийся подле меня, снял очки, старательно протер их и прошептал:
– Бог ты мой, куда это нас завезли! Ты представляешь себе, где мы?
– Да, – ответил я. – Река, которую ты только что видел, называется у нас Рейном. Этот вот лес справа – Рейхсвальд. А сейчас будет Клеве.
– Разве ты из этих мест?
– Нет.
Он мне надоел. Всю ночь напролет протараторил он своим петушиным голосом старшеклассника и чуть не свел меня с ума: он, мол, тайно читал Брехта, Тухольского, Вальтера Беньямина[1], а также Пруста и Карла Крауса [2], он бормотал, что поставил себе целью изучить социологию, а также теологию, ибо намерен содействовать обновлению Германии; а когда эшелон под утро остановился в Нимвегене и кто-то сказал, что скоро будет немецкая граница, он вдруг засуетился и начал приставать ко всем, не обменяет ли кто-нибудь моточек ниток на два окурка; так как никто не отозвался, я предложил содрать темно-зеленые нашивки с моего воротника, которые, кажется, называются петлицами, и распустить их. Я снял мундир и стал наблюдать, как он, вооружившись кусочком жести, аккуратно отпарывал эти штуки, мотал нитки в клубок, а затем и в самом деле принялся обшивать свои юнкерские погоны галуном. Я спросил его, уж не под влиянием ли Брехта, Тухольского, Беньямина и Карла Крауса занялся он рукоделием, или это следует приписать влиянию Юнгера, в котором он, правда, не признался, но которое побуждает его вновь утвердить себя в своем воинском звании с иголкой в руках – этой пикой Мальчика-с-пальчик. Сопляк покраснел и сказал, что с Юнгером он давно покончил и свел с ним все счеты, а когда мы въехали в Клеве, прервал свое шитье и снова подсел ко мне, стискивая в пальцах свою пику Мальчика-с-пальчик.
– Вот о Клеве ничего не могу вспомнить… Решительно ничего, – сказал он. – А ты?
– А я могу, – ответил я. – «Лоэнгрин» – фирма маргарина, лебедь в голубой рамке. Помнишь? А еще Анна Клевская, одна из жен Генриха VIII.
– В самом деле «Лоэнгрин»! Но у нас дома покупали маргарин «Санелла». Возьмешь окурки?
– Нет. Сбереги их для своего отца. Надеюсь, он даст тебе по морде, когда ты явишься домой с юнкерскими нашивками.
– Ах, тебе этого не понять, – вздохнул он. – Пруссия, Клейст, Франкфурт-на-Одере, Потсдам, принц Гомбургский, Берлин…
– Что ж, – сказал я, – Клеве, кажется, уже давно стал прусским городом, а где-то против него, по ту сторону Рейна лежит маленький городок Везель.
– Ну как же, – воскликнул он, – конечно, Шилль[3]!
– Впрочем, за Рейном пруссакам так и не удалось обосноваться. Они захватили там только два плацдарма – Бонн и Кобленц.
– Пруссаки, – сказал он.
– Бломберг, – сказал я. – Тебе нужны еще нитки? Он снова покраснел и замолк.
Поезд полз медленно, и все толпились у открытых дверей теплушки и глазели на Клеве. По перрону расхаживали английские часовые: небрежно одетые, хмурые, равнодушные и все же настороженные – ведь мы все еще были пленные; на шоссе столб со стрелкой: «На Кельн». Башня Лоэнгрина проглядывала сквозь осеннюю листву. Октябрь в низовьях Рейна, голландское небо; кузины в Ксантене, тетки в Кевеларе, напевный говор, шепот контрабандистов в пивных, шествия в честь святого Мартина, пекари, карнавал в духе Брейгеля, и везде пахнет мятными пряниками, даже там, где ничем не пахнет…
– Да пойми ты меня, – бормотал Сопляк.
– Оставь меня в покое, – оборвал я его.
Хотя он еще не был мужчиной, он скоро им станет, и поэтому я его ненавидел. Он обиделся, отсел от меня и стал дошивать второй погон. Мне его даже не было жалко: неуклюже, исколотыми в кровь пальцами втыкал он иголку в синее сукно своей летной формы; стекла его очков помутнели, и я не мог определить, плачет он или это только так кажется; я тоже чуть не плакал: ведь через два часа, самое большее через три мы будем в Кельне, а оттуда рукой подать до местечка, где жила та, на которой я женился и в чьем голосе никогда не звучали брачные нотки.
Внезапно из-за угла товарного склада выбежала женщина, и, прежде чем часовые успели опомниться, она подскочила к нашему вагону и развернула синий платок, в котором, как я сперва решил, запеленат ребенок. Там оказался хлеб, большая буханка хлеба. Женщина протянула ее мне, и я ее взял: 'буханка была тяжелая, и, на мгновение потеряв равновесие, я чуть было не вывалился из движущегося вагона; хлеб был темный, еще теплый, и мне хотелось крикнуть «спасибо, спасибо!», но слово это я вдруг счел почему-то глупым, а тут еще поезд прибавил скорость, и я остался стоять на коленях с тяжелой буханкой в руках; и поныне я ничего не знаю о той женщине, кроме того, что голову ее покрывал темный платок и что она была уже в годах.
Когда я, наконец, поднялся на ноги, в вагоне стало еще тише, чем прежде, глаза всех уперлись в хлеб, который под их взглядами становился все тяжелее; я знал эти глаза, знал их рты, зияющие под этими глазами, и много месяцев подряд пытался определить, где же проходит у меня граница между ненавистью и презрением, но так и не нашел этой границы; некоторое время я делил этих людей на пришивальщиков и непришивальщиков – это было, когда нас перевели из американского лагеря военнопленных (где было запрещено ношение знаков различия) в английский (где ношение знаков различия не возбранялось), – и к непришивальщикам я даже испытывал некоторую симпатию, пока не выяснилось, что у них у всех вообще не было никаких чинов и пришивать им было просто нечего; один из них, Эгелехт, даже попытался устроить надо мной нечто вроде суда чести, чтобы лишить меня права считаться немцем (и я мечтал, чтобы этот суд, так никогда и не состоявшийся, имел бы власть отнять у меня это право). Но они не знали, что всех их, и нацистов и ненацистов, я ненавидел не только за их пристрастие к пришиванию петлиц или за их политические взгляды, но и за то, что они были мужчинами, что все они были одного пола с теми, с кем я жил бок о бок целые шесть лет. За это время понятия «мужчина» и «дурак» для меня стали почти тождественными.
Где-то в глубине вагона раздался голос Эгелехта:
– Первый немецкий хлеб! И надо же, чтобы он достался именно ему.
В голосе Эгелехта слышались сдавленные всхлипывания, я и сам едва сдерживал слезы, но им никогда не понять, что это не только из-за буханки, не только потому, что мы уже пересекли границу Германии, а главным образом потому, что впервые за последние восемь месяцев я почувствовал прикосновение женской руки.
– Ты, – тихо сказал Эгелехт, – ты, наверное, даже этому хлебу откажешь в его немецком происхождении.
– Да, я поступлю как типичный интеллигент и задумаюсь над тем, не прибыла ли мука, из которой испечен этот хлеб, из Голландии, Англии или, чего доброго, из Америки. Поди-ка сюда, – добавил я, – и раздели его на всех, если тебе охота.
Большинство из них я ненавидел, многие были мне безразличны, а что до Сопляка, который последним примкнул к группе пришивалыциков, то им я тяготился все больше, и все же я считал, что должен разделить с ними этот хлеб – ведь я понимал, что он предназначался не мне одному.
Эгелехт медленно протиснулся вперед: он был долговязый и тощий, такой же долговязый и тощий, как и я, ему было двадцать шесть, столько же, сколько мне; в течение трех месяцев он пытался мне вдолбить, что националист – это не нацист, что слова Честь, Верность, Родина, Достоинство никогда не могут потерять своей непреходящей ценности, а я противопоставлял мощному потоку его красноречия всего только пять слов: Вильгельм II, фон Папен, Гинденбург, Бломберг, Кейтель, – и его бесило то, что я никогда не упоминал имени Гитлера, даже тогда, когда первого мая часовой бежал по лагерю и орал в рупор: «Hitler is dead, dead is he!»[4].
– Ha, – сказал я, – дели хлеб.
– Рассчитайсь! – крикнул Эгелехт.
Я дал ему буханку, он снял шинель, расстелил ее на полу вагона подкладкой вверх, разгладил подкладку, положил на нее хлеб, а вокруг нас тем временем шел расчет.
– Тридцать второй! – крикнул Сопляк. Стало тихо.
– Тридцать третий! – сказал после паузы Эгелехт и посмотрел на меня, потому что «тридцать третий» должен был крикнуть я, но я промолчал, отвернулся и стал глядеть в раскрытую дверь на шоссе, окаймленное старыми деревьями, тополями и вязами наполеоновских времен, под которыми мы с братом устраивали привал, когда ехали на велосипедах из Вееце к голландской границе, чтобы купить дешевого шоколада и сигарет.
Я чувствовал, что они там за моей спиной ужасно обижены; я видел на обочинах желтые указатели: «На Калькар», «На Ксантен», «На Гельдерн»; слышал звяканье самодельного ножа, ощущал, как обида нарастает, словно грозовое облако; они всегда находили повод обидеться – они обижались, когда английский часовой протягивал им сигарету, и обижались, когда он ее не протягивал; они обижались, когда я ругал Гитлера, а Эгелехт смертельно обижался, когда я не ругал Гитлера; Сопляк тайно читал Беньямина и Брехта, Пруста, Тухольского и Карла Крауса, но когда мы пересекли немецкую границу, он срочно обшил погоны юнкерскими галунами. Я вынул из кармана сигарету, которую выменял на свои ефрейторские нашивки, обернулся и присел возле Сопляка. Я наблюдал, как Эгелехт делил хлеб: он разрезал буханку пополам, обе половинки – на четыре части, а восьмушки – снова на четыре части, таким образом на долю каждого доставался хороший толстый ломоть – темный хлебный кубик, граммов, должно быть, в шестьдесят.