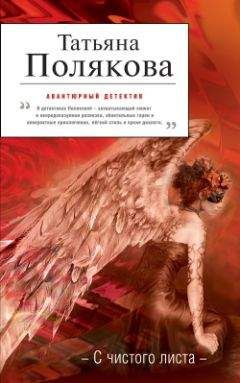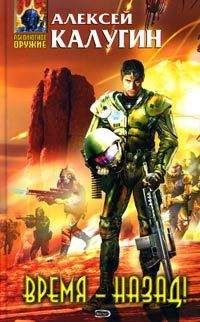Татьяна Барботина - Пешков

Обзор книги Татьяна Барботина - Пешков
Татьяна Барботина
Пешков
повесть
1.
Софья
Тридцать лет прошло, но запомнился тот цыганенок с темными пятнами на лице за стеклом вокзала. Как тетку посадили на поезд, Алексей Иванович не помнил. И лица не помнил – что-то рыжее, плюющееся, но приятное. Иногда Алексей Иванович видел таких женщин в метро, со спины они напоминали ему это приятное и потерянное – он приходил домой, подбегал, не разуваясь, к политической карте мира, висевшей на кухне, и с тоской блуждал глазами по Сибири, спотыкаясь об экзотические названия – Тарко-Сале, Бахта, Игарка – где ты Марина, Мария, Ирина… но помнил лишь ее медвежье, мамино, отчество – Потаповна.
В 95-м Алексей Иванович потерял своего домоуправителя, как в шутку называл он Софью Ивановну – она скончалась ночью в соседней комнате. Проснувшись от странной тишины, он ничего не услышал – ни радио, ни дальнего звона посуды, ни льющейся воды – он ничего не услышал. Сиротливо пел за дверью кот, немолчно дорога жужжала за отворенным окном, зелень, пронзительная от света, слепила глаза – усыпляла. «Ушла в магазин», – подумал Алексей Иванович и проспал еще два часа. Проснулся от ужаса – тишина. Встал, прошел в коридор – посмотрел в приоткрытую дверь второй спальни, сквозь щель увидел ее спящей, посмотрел на часы – двенадцать. Понял.
Подошел к кровати, сел рядом и звал по имени несколько минут, потом позвонил в скорую. Почему-то жаль было этих белых людей, в воскресенье убирающих труп жены, сочувствующих сухо, не скорбно, уходящих, закрывающих дверь.
С удивлением прочитав новость в газете, он еще некоторое время окликал ее – «Софуш…», позже – «Со…», через два года иногда прорывался звук «с», заминаемый шепелявым свистом. И как-то жилось. Двигалось как-то длинное время, такое неощутимое в молодости. Иногда проскальзывало что-то вроде сожаления – нет внуков – маленьких, с розовыми пяточками величиной с большой палец, таких же носастых, как и Алексей Иванович. Впрочем – детей тоже не было. «Не дал бог, не дал…», – вздыхал Алексей Иванович, усаживаясь с книгой в кресло, не учитывая, впрочем, что детей не хотел до смерти жены, будто рассчитывая на их рождение в будущем. После смерти Софьи – стало пусто и скучно – захотелось. Иногда плакал и бил кота увесистой тростью – в 86-м сломал ногу.
2.
Тринадцатый год
Утро – яркое, живое, проскальзывало через желтые занавески. Еще немного полежать в постели, потягиваясь и зевая, усмехаясь чему-то, рассматривая пальцы через свет – кровавые, молодые. Выбежать – вот – я. Бабушка с закатанными рукавами стоит в прихожей и моет в корыте редис, улыбается, поправляя волосы тыльной стороной ладони, – «Алеша, иди ешь». В животе бурчит, в руках мнется, очищается теплое яйцо, желток в уголках рта – спасибо, бабуля, вкусно. Лучку? Зеленого, если можно. Можно, Леша, можно. Опрыскивает под рукомойником лук, он хрустит, его зеленые трубки ломаются в руках, но, непокорные, все равно расправляются на черном хлебе, падают с него. Что снилось, парсюк? Так, так-так, снилось, что ты бабуля в белом платье, нарядная такая замуж выходишь второй раз – за молодого с усиками. Бежит, нагибается, обнимает – вот выдумщик! Чертенок такой-сякой – беги, давай, пока попа цела. Моя попа по-детски вертляво срывается со стула, и я бегу.
На участке жаркие кусты смородины топят свой запах – где бы услышать его – сейчас? Я бегу через поле, маленький мосток – провалившийся лист железа на куриных ножках, – в речке вода прозрачная и всегда холодная, в ней покачиваются бурые водоросли, мелькают косяки серебряных пулек, маленьких, ритмичных рыбок. Застыл и смотрел. Забыл обо всем.
Ива… склоняется.
Отражается. Ее длинные удила опускаются в реку и ловят рыбок на острые листья. Ивы вдали множатся, заслоняют друг друга – речка теряется. Я бегу дальше. По мосту, по полю, весь в пыльце и росе, стягивая пальцами венчики цветов с зеленой мякотью. По колено мокрый. Падаю – через траву просвечивает небо. Букашка размером с облако присела на лист и шевелит страшными челюстями. «Ты маленькая, – думаю я, – меньше козявки, меньше облака, ты – маленькая».
Когда вспоминаешь это время, то думаешь – оно было не со мной. Я мог все это придумать. Но почему я не могу ничего придумать, а только чувствую то время, будто струну, которую придержали пальцем – звук – тихий-тихий, но слышный, но больной и счастливый. Что в тебе ценного и важного? Я отвечу – бабушка после сна, моющая редис в корыте. И так становится больно и обидно на весь мир, на всех и каждого – никто не спросит. Моя «с…» тогда не была со мной, а семья ездила на картошку – она выкапывала ее и сажала, выкапывала и сажала. Не забыть бы беседку, пионы у входа… Алексей Иванович сидит в своем кресле, врезавшись в двести седьмую страницу романа – ему снится он, тринадцатилетний.
(Я снова приехал к бабушке, только она уже умерла. И не было ее старого дома. На его месте стоял новый, перестроенный, и в нем жили родители. Я сидел под яблоней в огороде и пытался пройти тот старый дом по памяти – от крыльца до последний комнаты. Вот здесь жили другие люди, здесь они писали свои дневники о погоде, ругались и вечно ремонтировали когда-то старый дом. Здесь гнали самогон, сушили травы, стругали большим рубанком капусту, готовили кислые щи, подогревали на сковородке мороженое… так хотелось мороженого… лежа в постели, в горячке… эти самые руки, те самые, разогрели его на сковородке и влили маленькими глотками в горячий рот – холодного нельзя. Я помню, как пришел сюда, чтобы остаться лежать в последней комнате на перине долгое, долгое время – заболел ангиной. Стоял в холоде на четырех ступенях, ведущих в переднюю, комки снега, ступени скрипели так тепло, ведь я уже не здесь, меня несет в натопленную комнату с запахом чая, и черное смородиновое варенье пахнет сахаром уже здесь, когда я счищаю снег с ботинок на этих четырех ступенях, ведущих в переднюю. Я открываю дверь и стою, пуская холод – вот он я, пришел, к вам. Ко мне бросаются, кричат – «вот же парсюк головастый, в такой мороз, пришел» – и ставят белую чашку с голубыми животными по краям. Потом снег, он за окном слепит меня, я отворачиваюсь от него, мне все безразлично – высокая температура, таблетки, лица, обои и трюмо, ночью превращающееся в толстого карла.
Здесь брились ворчащей бритвой, будившей – сразу – весь дом, здесь расчесывались пластмассовой мягкой расческой с черным налетом на белых зубцах, здесь висело зеркало – прямо напротив меня – я ел пресные блины и смотрелся в него – неужели я так приятно смотрюсь, когда ем пресные блины? И щеки не такие уж… Эй, Лешка! Пьют за упокой. Поднимай компот – пей – «пусть земля тебе будет пухом». Это был дед.
Я снова и снова пытался пройти тот дом до конца, но так и не смог. То меня отвлекали валенки деда 45 размера, похожие на пару кашалотов, то погребной лаз, из которого чьи-то руки выставляли на пол трехлитровые банки с огурцами и капустой, то вешалка с телогрейками, стул о трех ногах, мой первый фотоаппарат, теткино свадебное платье… Я открыл глаза и увидел, как моя мать полет грядку в пяти метрах от меня, и я стал одним словом: почему? Небо, синее, с махонькими белыми перьями давило на веки, оседало всем своим весом на яблоню, под которой я сидел. Каждый лист держался как атлант, пружиня на ветру. Земля поддерживала меня на весу – влажная и жесткая, она толкала меня навстречу листьям и перьям – то был громадный ответ, проговорить который невозможно, только впустить на секунду в себя самого, заполниться им.
И отдать обратно.)
3.
Левушка
Котика принесли и бросили на палас в коридоре. Похожий на персик, рыжий, на коротеньких лапках, он будто спросонья мотал головой из стороны в сторону. Софья сварила курицу и с рук кормила его теплым мясом.
– Ты – Лёвушка. Правда ведь?
– Да, похож.
Алексей Иванович с неприязнью подсчитывал количество внимания, которое жена оказывала неизвестному коту. Она сидела на корточках и шушукала Лёвушке что-то нежное, рисуя пальцем вокруг его пушистого хвостика – котенок падал лапами на врага, но Софья, смеясь, убирала руку.
Алексей Иванович удалился в свою комнату, чувствуя вину и обиду. Целый вечер он мастерил игрушку для нового истребителя домашних обоев, цветов и обуви. Сшитая из красных листов твердой бумаги бабочка на нитке почти никогда не привлекала внимания Лёвушки. Он с первого дня полюбил драть кресло в кабинете.
– Что же ты, парсюк! – шипел Алексей Иванович и хлопал по ручке кресла. Хитрый кот был ловчее.
– Не ругайся на Лёву, – обиженно вставляла Софья из своего угла, опустив книгу.
– Я ничего… ничего, – оправдывался Алексей Иванович, закрывая досаду газетой и отбрыкиваясь свободной ногой от жестокого льва, обнявшего его за ступню и терзавшего задними лапами пятку.