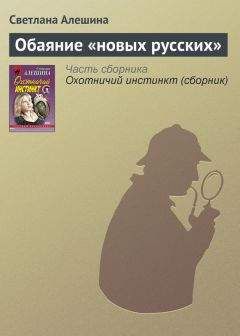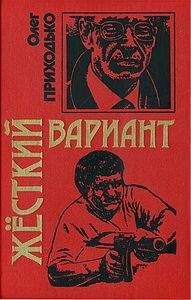Николай Климонтович - Только остров

Обзор книги Николай Климонтович - Только остров
Николай Климонтович
Только остров
Миша Мозель, стыдя себя, в последние годы все больше сторонился людей. С ними ему зачастую становилось неинтересно и скучно, многие оказывались одинаковыми: никем и ничем не интересовались. Нет, Миша не вовсе потерял вкус к жизни: он по-прежнему любил книги и жену, курить крепкие сигареты натощак, свою работу и по-прежнему жалел мир. Сейчас он смотрел из окна палаты на мелкий частый дождь в больничном дворе, на мокрые желтые листья, которыми были запятнаны и асфальт, и газоны: красные листья в этом октябре отчего-то дольше держались на деревьях. Он наблюдал, как мокрая пегая ворона склевывает редкую китайку на уже облетевшей яблоне – райские яблочки, – и ворону ему тоже было жаль. Как и яблоню, впрочем. Он думал о том, что эта его жалость всего лишь обратная сторона зависти, потому что птица свободна и здорова, у нее отменный аппетит. А яблоня его переживет…
Дверь за его спиной с шумом распахнулась. Миша обернулся. Двоих соседей по палате на месте не было, Миша не заметил, как они вышли. Процедурная сестра, равнодушная от старости и стажа, задевая со стуком разлапистыми железными ножками за косяк, гремя банкой с раствором, внесла в палату штатив с капельницей. Миша молча улегся на свою кровать, подставил правую руку, сдвинув к плечу рукав халата. Сестра наложила жгут, Миша без понуканий стал работать кулачком. Сестра принялась щупать его руку, с привычной досадой приговаривая «Ох, плохие у вас вены», как будто за две недели, что она брала кровь и ставила ему капельницы, вены могли измениться – впрочем, от первых неудачных ее попыток остались-таки две гематомы.
Не то чтобы Миша гордился своими венами, но в первый раз за них чуть обиделся. А потом привык. Он уж ко многому здесь привык, человек скоро привыкает… Плохие, потому что тонкие, неудобные, пожилой подслеповатой женщине трудно было их достать. Наконец она нашла, ткнула иглу в руку, больно поддела кожу и, кажется, попала-таки, потому что в шприце показалась кровь. Она неловко, плохо гнущимися пальцами, приладила катетер, повернула крантик и удалилась. Пузырек воздуха побежал вверх по гибкой прозрачной трубке. И Миша прикрыл глаза.
Конечно, если все обойдется, на Остров он отправится, приглашение останется в силе до весны, а ведь Мише было просто необходимо туда попасть… Он спросил у врача, мол, так и так, он должен отправляться за границу, и ему непременно надо знать, сколько времени займет операция, а сколько реабилитация – в лучшем случае. И врач, вечно спешащий куда-то по больничному коридору – полы короткого белоснежного халата порхали над модными брюками и дорогими штиблетами, – ухмыльнулся и бросил на бегу коротко как повезет. Миша, который всегда пуще огня боялся быть навязчивым, тут взмолился: «Но все же, доктор?» И тот остановился в своем беге, устало посмотрел Мише в глаза из-под тонких с позолотой очков, произнес с холодным врачебным цинизмом: «Бывает, выписываем через две недели, а бывает, дело кончается летальным исходом…»
Этот разговор состоялся на второй день водворения Миши в палату, тогда он еще не знал ничего.
Странным и страшным был этот последний год Миши Мозеля: он пережил слишком много для такого короткого времени. Сначала умер отец, и Миша похоронил его на Хованском кладбище. Обронив в присутствии сына, что теперь ей жить не для кого – Миша был не в счет, она всегда любила только отца, – через семь месяцев умерла мать.
Отец умер легко, как праведник. С отменным аппетитом позавтракал перловкой и кофе, съел бутерброд с красной икрой, попросил включить старый Грюндик, настроенный на английское Би-Би-Си, откинулся на подушку; когда Миша вошел в его кабинет через пять минут, отец был уже мертв, и на светлом его лице осталась чуть уловимая улыбка, как будто в последний свой момент отец что-то узнал.
Мать умирала долго и трудно, почти месяц была не в себе, подчас не узнавала сына. Иногда спрашивала, какая остановка, волновалась, не пора ли выходить. Но даже когда приходила в себя, совершенно Мишу не стеснялась, не видела в нем мужчину, и Мише это было тяжелее всего: мать всегда была холодноватой и очень щепетильной женщиной, до чопорности… Верочка, конечно, приезжала его подменять, но под разными предлогами Миша ее ласково выпроваживал; мать с невесткой всегда была не в ладах, тем более что Верочку больная теперь вообще отказывалась узнавать, шептала: «Кто эта чужая женщина?» – со страхом. Мише подчас мерещилось – притворным.
Мать была принципиальной тихой атеисткой, хотя, конечно же, была крещена во младенчестве, и пожелала, чтобы тело ее непременно сожгли в крематории. Миша сжег; а когда получил урну через несколько недель, похоронил там же, в могиле отца. Он уже все делал как во сне, и если б не Вера – не справился бы. Так ему казалось.
Потом случился пожар на складе, где хранился тираж «Вестника», и все сто пачек погибли. Хорошо, Миша успел кое-что забрать в первые же дни и разослать – иначе плоды долгой его работы совсем пропали бы… И вот, наконец, у него обнаружили опухоль на левой почке, и он оказался в этой палате.
Лежа здесь, он часто вспоминал присказку «Беда одна не ходит». Прежде он иронически кривился от всяческих фольклорных трюизмов, эта самая народная мудрость казалась ему навязчивой и плоской, но теперь пришлось согласиться: верно, не ходит.
Теперь он часто вспоминал полузабытые стихи, постепенно они будто проявлялись в памяти:
Еще одно поведать о нем я не успел,
Колчан его ломился от златоперых стрел,
Чей острый наконечник был шириною в пядь.
Кто сбит такой стрелою с ног, тому уже не встать.
Когда-то отец читал это маленькому Мише вслух перед сном, и даже позже, уже в первых классах, когда Миша ангинил и температурил.
И, лежа в палате или стоя с сигаретой на застуженной задней лестнице над вонючим ведром, куда старшая сестра указала бросать окурки – курить в отделении дозволялось только здесь, – Миша повторял шепотом:
Кто сбит такой стрелою с ног, тому уже не встать…
В родительской квартире всегда, сколько помнил себя Миша, стояли в гостиной старые напольные часы в массивном дубовом ящике. Часы были так же внушительны, как и большой резной дубовый английский буфет. Уж бог знает, как пережили эти вещи советскую историю, но были целы и стояли здесь со времен дедушки Миши.
Часы, как издавна считалось в семье, давно не шли, механизм был испорчен, но к ним полагался большой массивный ключ с коваными двумя лепестками, и в Мишином детстве бабушка часто выгребала этот дивный предмет из груды Мишиных игрушек, и ключ водворялся на место, в маленькую нишу за дверцей под циферблатом… В день кремации матери, когда в родительской квартире после недолгих и тягостных поминок никого не осталось, а Верочка, выпроводив последнюю, далекую и неведомую тетку, принялась на кухне мыть посуду, Миша, слоняясь без дела и маясь, машинально отворил ту самую, заветную в его детстве дверцу и нашел, что ключ так и лежит на месте. Миша достал его, вставил в четырехугольную скважину и несколько раз повернул с усилием и скрежетом по часовой стрелке. И вздрогнул от испуга: внутри что-то скрипнуло, часы будто вздохнули – и пошли. «Верочка, – крикнул Миша с суеверным ужасом, – Верочка, они – идут». Но никто его, конечно, не услышал, и ему в одиночку пришлось догадываться, что такое старые часы принялись вдруг отмерять.
И до больницы, и в палате Мише теперь то и дело снились родные – быть может, потому, что на пятьдесят первом году жизни он вдруг понял, что остался сиротой. Ему снился отец, снилась мать, потом несколько раз кряду принималась сниться бабушка, которую он когда-то очень любил и продолжал любить и сейчас: она, по сути, его и воспитала, а умерла уже очень давно, почти четверть века назад. Во сне с бабушкой они искали какой-то дом в какой-то неведомой печальной местности, шли отчего-то по заросшим железнодорожным путям, перешагивая по шпалам между ржавыми рельсами…
С отцом – разговаривали, и подчас оказывалось, что это вовсе не отец и что говорить не о чем, но на следующую ночь отец появлялся снова, и все повторялось, и случалось так, что Миша, уже пробуждаясь, зная во сне, что видит сон, все порывался отцу сказать что-то или что-то спросить, но с ужасом понимал, что забыл – что именно… Мать же ему вечно что-то запрещала, раздражалась, вечно что-то крутя в пальцах, конец шали, что ли, при том что никаких шалей и платков никогда не носила, спорила с ним в каких-то незнакомых и всегда тесных комнатах, в каком-то деревянном доме… И Мише теперь было впору согласиться с простонародным убеждением, что таким образом его умершие близкие зовут его и, наверное, вскоре он свидится с ними.