Гергей Ракоши - Сальто-мортале
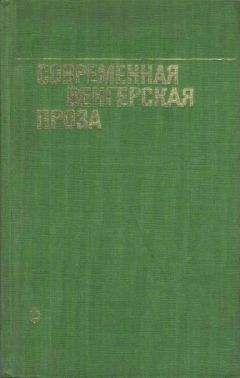
Обзор книги Гергей Ракоши - Сальто-мортале
Гергей Ракоши
Сальто-мортале
Гергей Ракоши принадлежит к тому поколению, чью молодость опалила война. Он родился в 1924 году в Будапеште, был мобилизован в конце войны; вполне понимая всю ее бессмысленность, дезертировал, пережил плен и вернулся уже в новую Венгрию. Окончил сельскохозяйственный институт, работал, освоил не одну специальность — и начал писать, благо впечатлений накопилось немало. С конца пятидесятых годов в газетах и журналах появляются новеллы, очерки Г. Ракоши. Знание жизни и острая сатирическая жилка характерны для его письма. Склонен он и к гротеску — такова, например, его повесть «Гигантская тыква», которую он называет «любимейшим своим детищем». В ней получили своеобразное отражение волюнтаристские методы руководства хозяйством страны. Ракоши писал по этому поводу: «Удручающие воспоминания лишь тогда перестают быть удручающими, когда превращаются в воспоминания, которые более не тревожат наших снов, когда мы уже можем над ними смеяться. Смеяться и говорить о них вслух».
Г. Ракоши — автор нескольких книг. Среди них — сборник рассказов и повесть «Гигантская тыква» (1969), роман «Взгляните, братья мои» (1976).
Повесть «Сальто-мортале» опубликована в 1970 году. Искренняя интонация, важная тема ее — обретение молодыми людьми своего места в жизни, обретение настоящей любви — делают это произведение значительным явлением в творчестве писателя.
1
Уж как я ревела, когда мы попали сюда, ночи напролет, а то и несколько раз на дню, долгими неделями, — просто ужас. Хотя я и была исполнена решимости, ярости и все такое прочее, — дескать, я себя покажу, мы себя покажем, но уже в первые же дни я сникла. Можно показать себя на легкой, короткой дистанции — я много раздумывала над этим. Скажем, так: широкая площадь, толпа, охи да ахи, успокоительные распоряжения милиции, а там, напротив, клубы дыма до неба, рвущиеся ввысь языки пламени: горит дом, издалека волнами накатывает вой сирен пожарных машин, а в паузах с той стороны прорывается леденящий кровь человеческий вопль. И тогда я, нет, — мы с Дюлой расталкиваем стоящих перед нами людей и мчимся через площадь — рука об руку, — не обращая внимания на запретительные возгласы, свистки, крики ужаса, сыплющийся дождь искр, рушащиеся балки, а затем, набросив на голову пальто, исчезаем в извергающей дым подворотне.
Да, я всегда ощущала в себе достаточно силы и решимости для такого поступка и теперь, наверно, уже могу сказать почему. По-моему, тут два решающих обстоятельства. Первое: чем бы это ни кончилось, все произойдет сразу, мгновенно. Второе: там, снаружи, за тобой с трепетом наблюдает сочувствующая толпа, и сознание этого — огромная сила, она делает человека способным на все, даже на смерть.
Ну, а если человек споткнется на длинной дистанции, скажем, пересекая пустыню, и при этом не будет ощущать на себе ни сочувственных, ни участливых взглядов, вот тогда мелькнет у него мысль: «Чего ради?», и он бросится на землю, и былинки покажутся ему гигантскими ощетинившимися мечами, и сдастся, хотя, быть может, остались в нем еще силы.
Я сдавалась уже не раз и по-разному, однажды сдалась совсем, но Дюла всегда так или иначе вытаскивал меня из беды — однажды довольно необычным образом, так, что и не было его рядом. Я все расскажу.
Банальные эти примеры я привела только потому, что я и Дюла… что мы с ним… нет, не могу я так сразу. Вот уже три года, как мы живем здесь на мельнице, на берегу речушки. Когда-то это была водяная мельница, но ее механизм давным-давно разобрали. И на ней десятилетиями жили люди, но потом, когда развернулось жилищное строительство, они оставили ее и переселились в деревню. До деревни отсюда с полкилометра, от нас ее отделяет речка и заливной луг, весной и осенью он превращается в настоящее море, и тогда нам приходится карабкаться наверх между холмами с виноградниками до шоссе, ведущего через лес, и в таком случае от нас до деревни выходит больше двух километров. Но мы не жалели об этом, потому что первые полтора-два года от деревни веяло на нас тихой ненавистью; тот, кто на собственной шкуре не испытал ничего подобного, представить себе этого не может. Да что я говорю! Тихая ненависть? (Эти речевые штампы вроде репейника.) Какая уж там тихая. На общем собрании, когда председатель представил нас, точнее Дюлу, и объяснил, для чего он, Дюла, ему понадобился, Дюле слова не дали сказать — разразилось форменное землетрясение. Те, кто теснились в коридоре, с такой силой навалились на дверь, что дверная рама вместе с расхлюстанными створками и люди рухнули на задние парты, весь класс заходил ходуном от грузного топота множества ног. В облаке пыли от отвалившейся штукатурки люди в изодранной одежде, а кое-кто и с расквашенным носом, грозили нам кулаками; Балаж Щука, который, как мы впоследствии воочию убедились, таскал от молотилки к машине по два мешка зараз, сидел на школьной парте, так он так подпрыгнул, что парта повисла у него на пояснице, — он разодрал ее, словно картонную коробку, и одну половину швырнул в окно. А окно-то было закрыто. И еще возгласы, — рев.
«Мы никому не позволим ставить опыты на нашей шкуре! Прошли уже те времена, когда мы своей собственной метлой выметали со своих же чердаков свое собственное зерно!» И отборнейшая ругань. Один криворукий сзади вскочил на парту и показал нам латаный-перелатаный зад своих вельветовых штанов. «Вот как мы зарабатываем на этой суке-земле. Не хватало еще посадить нам на шею дармоедов, чтобы вконец загнать нас вот сюда!» И тут он так рванул штаны, что они лопнули и разошлись надвое. Впоследствии председатель рассказал нам историю этого криворукого, Рема Кукуружняка, вероятно, для того, чтобы мы не принимали случившееся так близко к сердцу. «Председатель, конечно, не станет орать и рвать на себе одежду, но все же ему надо стараться понять всякого человека, даже такого вот деревенского дурачка. Иногда лучше это делать исподволь, но разобраться в человеке ты обязан. В ком нет к этому ни способностей, ни наклонности — кто знает, что хуже, — но он все же становится во главе пусть даже самого маленького коллектива, тому грош цена. Я вижу, Магдика, у вас все лицо раскраснелось, а муж ваш как мел белый — навел на вас красоту этакий прием. И неудивительно. Но пока не надо ничего говорить. Прежде чем вы скажете, останетесь вы у нас или нет после всего этого, позвольте, я расскажу вам, как покалечился этот Рем. Уже одно имя чего стоит. Родственники его живут в Югославии, и он не перестал переписываться с ними, тогда как многие перестали. Нашей землей никогда нельзя было похвастаться, ни в прошлые времена, ни в нынешние. Тут и из большого урожая много заготовить невозможно. А этот Кукуружняк, как я уже говорил, и переписываться продолжал, когда другие давно уже бросили, и не припрятывал ни зернышка даже из самого малого урожая, когда другие и пшеницу, и рожь, и кукурузу — все закапывали, все, что только можно, — под кучей навоза, в погребе, в хлеву, просто под деревом — если, мол, что найдут, есть еще тайничок, найдут второй, есть третий… А Кукуружняк говорил: «Пусть у меня руки отсохнут, если я, как вор, буду прятать то, что выцарапал собственными ногтями из этой чертовой глины с камнями!» Если из богатого урожая на госпоставку заберут много — всегда еще порядочно останется. Если заберут много из бедного — и тогда что-то останется. Но если из бедного забирают все — тогда ничегошеньки не остается. Так и оказался Рем Кукуружняк на исходе осени с женой, двумя детьми, одним подсвинком и ни с чем больше. В тот же день пошел он через Верхний лес в третью деревню, там у нас находился сельсовет, там же проживал и ветеринар. Сначала он зашел в сельсовет и рассказал что и как. «Сколько весит свинья?» — спросил председатель совета. «За восемьдесят, но на девяносто не потянет», — ответил Рем. «Тогда зря ты пришел, мужичок, скотину ниже ста десяти кило резать запрещено». «Но я же сказал, что и как, мне нечем ее кормить». — «Имеется постановление», — отвечает председатель. — «Но мне же ни детей кормить нечем, ни жену. Если и есть такое постановление — вообще-то я знаю, что есть, — затем и пришел, что, если я его не нарушу, свинья подохнет. А если подохнет свинья, то и все мы подохнем. Коровы у нас нет, хлеба нет. Ничего нет. Будто не знаете! Потому и приходят теперь к вам». Председатель покачал головой, пожалуй, еще и подмигнул: «Если уж очень подопрет нужда, отыщется небось какой-нибудь припасец». — «Нет!» — «Не надо здесь орать», — говорит председатель. — «Нет!!» — «Хоть немножко, да отыщется!» — «Ничегошеньки не отыщется! Ничего! Я не вор!» — «Сейчас же оставьте помещение!» — сказал председатель. И пошел Кукуружняк к ветеринару, рассказал слово в слово, что произошло утром у него дома, и что теперь здесь, в здании совета, а потом вытаскивает из кармана бумажку в пятьдесят форинтов. «Вот все мои деньги». — «Что за идиот, что за дурак, — подумал ветеринар, — учиняет скандал в совете, и хочет, чтобы я после этого… — Он отпихнул от себя деньги. — Ишь, что придумал!» — «Да мне только бумажку, что свинья не жрет. Что-нибудь в этом роде. Одну строчку и печать! Она и вправду не жрет. Нечего ей жрать». — «Нельзя», — отвечает ветеринар. «Но я же знаю, — говорит Кукуружняк в отчаянье, — что вы, господин доктор, другим иной раз…». — «Пошел к черту!»- заорал ветеринар. Кукуружняк со своей полсотней завернул в корчму. Хотел все хорошенько обдумать. Рожь и пшеницу он посеял, да к тому же вручную и разреженно, если б смог, собрал бы теперь с земли все по зернышку. Больше ничего в голову не приходило. Оставалось только одно, и он отправился домой, чтобы сделать то, что задумал. По дороге, в ночном лесу он громко повторял: «Больше делать нечего!» Спешил и все прибавлял, прибавлял шагу. Дома он даже не присел, повязал бывший когда-то голубым фартук, вытащил из ящика сапожный нож и позвал жену, она сразу выбежала во двор, видно, даже и не засыпала. «Одевайся», — сказал Рем босой дрожащей жене, которая стояла в белой полотняной рубахе. «Ты получил бумагу?» — спросила она. «Одевайся!» — «Получил?» — «Неси синюю кастрюлю под кровь». — «Значит, нет?!» — «Воду, чтобы ошпарить, потом успеем подогреть, лишь бы управиться со всем так, чтобы никто не пронюхал!» Жена по-прежнему стояла неподвижно, в рубахе, как вышла. «Я тебе не помощница!»- сказала она наконец. «Скажем потом, что ее паралич хватил». — «Нет», — сказала жена. «Нет?» — «Нет. Я боюсь». — «Одевайся, мать твою перемать!»- заорал Рем и принялся тормошить ее. «Нет, нет, нет! Я боюсь!» — «А меня не боишься?» — «Тебя нет», — жена потянулась к нему, чтобы он видел, как она ему доверяет. Тогда Рем полоснул ее ножом, и, не дожидаясь, когда она упадет, с такой же яростью бросился в хлев, ощупью в темноте вытащил за хвост свинью, чтобы зарезать ее. Но вместо уха он схватил ее за рыло и, когда вонзил нож, зубы животного искромсали ему всю левую руку. Я был тогда на суде, ему дали восемь лет, но я так и не мог понять, сколько из них — за покушение на убийство, сколько за незаконный убой скота, а сколько за самое его невенгерское имя… Впрочем, со своей женой он живет до сих пор. Это, конечно, было давно, но было, и, прежде чем пинать рычащую собаку, не мешает узнать, почему у нее шерсть дыбом даже тогда, когда ее хотят погладить!»
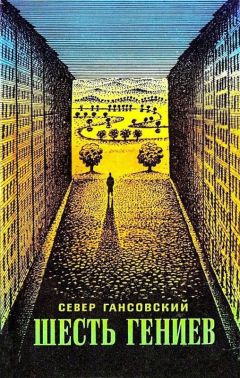
![Север Гансовский - Шесть гениев [Сборник]](/uploads/posts/books/86368/86368.jpg)


