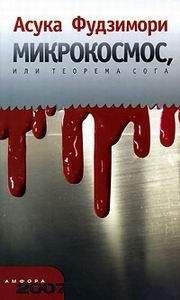Джеймс Олдридж - Папина сорока

Обзор книги Джеймс Олдридж - Папина сорока
Джеймс Олдридж
ПАПИНА СОРОКА
Папа мой ничем особенным не выделялся: обыкновенный англичанин, консерватор в политике, скромный и взыскательный в одежде, иногда дурно настроенный, иногда хорошо, но в общем-то человек довольно ровный. Манерой говорить он немного напоминал священника, хотя был он в нашем провинциальном австралийском городке редактором газеты.
К тому же у него было три кошки, собака и сорока.
Жили мы в большом деревянном доме, который строили где-то там, за сотни миль от города, а потом приволокли сюда на катках. Дом стоял в огромном саду — самом большом саду во всем городке. Овощами и фруктами у нас занимался отец, зато великолепный цветник был целиком на попечении мамы, и она вложила в него всю свою тоску по родной Англии. Жили мы тихо и уединенно, как и полагается добропорядочной английской семье, составляющей украшение города.
А вот наши кошки, собака и сорока — дело другое.
Я даже не припомню точно, как все они попали к нам в дом. Пес появился у нас первым, с него я и начну. Его перебросили как-то ночью к нам через забор в бумажном пакете. Это был крошечный щенок — шелковистый ирландский терьер, и он скулил до тех пор, пока отец не вышел и не взял его в дом. Так что, как видите, нас наградили им через забор, не совсем обычным путем, тем же путем пришла к нему и погибель.
Отец назвал щенка Майкл О'Хэлоран, в честь его ирландского предка. А стал он Мики, потому что был вылитый «Мики-ирландец»: этакий задиристый, нахальный, с мягким носом щенок, который важно бегал по всему городу, как по собственным владениям.
Мой отец и Мики были неразлучны, и жители городка не представляли их себе порознь. Хотя мой отец был редактором газеты, он являлся также судебным репортером, литературным критиком, писал передовицы, статьи по социальным вопросам и так далее. И поэтому все время ходил по делам то в полицию, то в мэрию, в церкви, школы, в общества фермеров и на встречи ветеранов войны. Мики всюду следовал за отцом. Так они ходили из года в год, и Мики изучил город не хуже самого отца.
С годами Мики стал поздно просыпаться по утрам, и отец уходил без него. Тогда Мики отправлялся в поисках отца знакомой дорогой. Явившись, например, в мэрию, он не успокаивался, пока не проникал в кабинет самого муниципального советника и не обнюхивал там все закоулки. То же самое проделывал он в других местах, не исключая полиции и тюрьмы, где отец любил другой раз побеседовать с кем-нибудь из немногочисленных заключенных.
Отец аккуратно посещал церковь, пес же по воскресеньям обычно спал еще дольше, чем всегда, а проснувшись, бежал к церкви и ждал там отца на коврике у главного входа. Впрочем, иногда мой отец сам произносил проповеди (он получил духовное образование и по временам заменял священника). И если Мики, прибежав к главному входу, слышал раскаты отцовского голоса, он обегал вокруг церкви, дожидался у служебного входа и пытался даже пробраться в церковь.
Не раз, бывало, отец произносил проповедь, а Мики спал, растянувшись, у его ног.
После Мики появились кошки. Я не помню, откуда они набежали к нам, помню только, что было их три: рыжая, полосатая и черный красавец — кот. Кошек назвали по их масти, впрочем, это соответствовало и их характеру. Искра была рыжая развеселая кошка, которую отец не раз отчитывал за то, что она пропадала где-то по ночам. Домоседка Белочка, наоборот, все время слонялась по дому и жирела, поедая лакомые кусочки, на которые не скупилась мама. Черный кот был джентльмен: белая грудка и белые лапки, и отец назвал его Стэнли Брюс в честь австралийского государственного деятеля (ныне лорда Брюса из Мельбурна), который имел неосторожность являться в парламент в гетрах и белом жилете. Впрочем, для краткости кота стали звать просто Жилет.
Сорока появилась у нас примерно в одно время с кошками.
В один прекрасный день она вылетела из кустов, измученная и пораненная. Ей было несколько месяцев от роду, и, вероятно, ее поклевал ястреб или орел. Она упала в саду под сливой, отец принес ее в дом, положил на теплый очаг и накормил червями. Она стала четвертой и последней из папиных любимцев, и назвали ее попросту — Мэгги.
С появлением Мэгги, самой наглой, горластой и прожорливой птицы на свете, отцу пришлось установить какое-то подобие социального порядка в мире своих любимцев. Мэгги, у которой было сломано крыло, легко могла стать добычей любого дикого кота, и поэтому на наших кошек была возложена обязанность следить, чтобы ни один такой бродяга не подкрался к Мэгги. Мики должен был не подпускать собак к нашим кошкам и сороке. Мэгги в свою очередь было поручено предупреждать всех остальных о появлении змей: летом везде было полным-полно ядовитых змей.
Такова была структура этого мирка, ибо именно так решил упорядочить его отец. И это себя оправдывало. Более того, в мирке этом существовали свои правила приличия. Дважды в день отец выстраивал для кормежки всех своих любимцев — Мики, трех кошек и Мэгги, и никто из них не смел начать, прежде чем остальные не получили своей порции. Другими словами, никто не прикасался к еде, пока отец не начинал кормить Мэгги, потому что ее приходилось кормить с рук.
Кормежка была самым уязвимым звеном в искусственно созданной системе их взаимоотношений. Не думаю даже, чтобы они завидовали друг другу, но Мики, например, процедура кормления явно приводила в замешательство. Он растягивался на полу и лежал с закрытыми глазами, пока отец не позволял приступить к еде. Кошки неизменно делали вид, что их это не касается. И только Мэгги все это по-настоящему нравилось, вероятно потому, что все ждали ее, а она дерзко подгоняла отца: «Ско-рей! Ско-рей!» — пока он не бросал ей в клюв пищу. И тогда ее крик переходил в вульгарное «чав-чав-чав».
Мэгги так дерзко и бесцеремонно обращалась с остальными папиными любимцами, что я часто удивлялся, почему они на нее не бросятся, когда она, бывало, докучает им своим криком и насмешками, поднимает ложную тревогу, отчаянно вопит: «Волк! Волк!» — и вообще всячески позорит их всех своим недостойным поведением.
Иногда я замечал, как кто-нибудь из них бросал на Мэгги недобрый взгляд, как будто представляя себе, как она в конце концов захрустит у него на зубах. Но это случалось редко. Она дразнила их, но они оставались ей верны, несмотря на все ее дерзости.
По правде говоря, в проделках Мэгги было что-то от юмора, который таил в душе отец. Взять хотя бы слова, которым он ее выучил. О, конечно, никакого сквернословия: такие шутки были у нас не в чести. Просто-напросто, усевшись на заборе ни свет ни заря, Мэгги кричала всем прохожим своим пронзительным скрипучим голосом: «Привет! Привет! Привет!» А потом задорно верещала вдогонку: «Пока! Пока! Пока!» — и хохотала, как смеется собственным мыслям выжившая из ума старуха.
Людям это не нравилось — их раздражали эти крики. А Мэгги приветствовала таким образом и кошек с собаками. Иногда она поджидала их, притаившись за проволочным забором, а подпустив поближе, оглушала внезапно своим криком. Тут уж она вдоволь хохотала и верещала себе в безопасности за забором, пока они фыркали и лаяли на нее.
Мясник ее просто ненавидел.
Каждое утро в одиннадцать часов сорока поджидала его у ворот. Как только мясник с корзинкой в руках вылезал из своей повозки, она прыгала в корзинку и торжествующе кричала, пока он бежал к дому: «Вот мой обед! Вот мой обед! Вот мой обед!»
Ее кормили мясным фаршем, и мясник не смел и руку протянуть к пакету, чтобы отдать его матери, так больно клюнула его однажды Мэгги. Матери самой приходилось брать мясо, и даже на нее Мэгги дерзко покрикивала: «Отдай мой обед! Отдай мой обед! Отдай мой обед!»
Иногда мама, чтобы подшутить над отцом, давала Мэгги до ужина несколько кусочков мяса, но сорока, проглотив один, сразу отходила в сторонку и терпеливо ждала вечерней процедуры кормления.
В огороде Мэгги тоже находила себе пищу и развлечение. Каждый раз, когда, копая грядки, отец выкапывал червяка, раздавался крик Мэгги: «Еще один!» Она бросалась на несчастного червяка, и тогда слышалось только «чав-чав-чав». Червяки были единственной пищей, которую она хватала сама.
Конечно, этому удивительному содружеству рано или поздно должен был прийти конец, но несколько лет все шло довольно мирно. Я думал, что осью этого мироздания была Мэгги, но оказалось, что держалось-то все на Мики, потому что, когда Мики не стало, весь этот мир рухнул.
У Мики была одна слабость. Утром по понедельникам и субботам, когда отец копался в саду, Мики бегал за реку на скотоводческие фермы и гонял там овец, просто так, ради удовольствия. К сожалению, овцы из-за этого тощали, и овцеводы были решительно против подобных развлечений Мики. По простоте душевной они даже явились к отцу и попросили его написать передовую об опасности, которую представляют для овцеводства резвящиеся собаки. И отец написал эту передовую в самых решительных выражениях. Потом он зачитал статью Мики. Но, к сожалению, это не заставило Мики отказаться от субботних удовольствий, а овцеводы очень скоро обнаружили, что одним из негодяев, гонявших овец, был наш Мики.