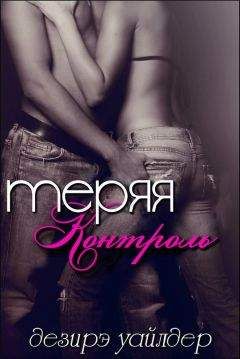Валерий Сегаль - Десять лет спустя

Обзор книги Валерий Сегаль - Десять лет спустя
Bалерий Сегаль
Десять лет спустя
Посвящается ВЛАДИМИРУ ЕПИШИНУ, отличному гроссмейстеру и хорошему другу
8 ноября 1905 года
Ранним утром, когда женевский экспресс уже приближался к окраинам Санкт-Петербурга, в полупустом вагоне-ресторане сидели два респектабельных молодых человека и пили водку, закусывая ее осетриной.
— Осень… Поздняя осень, даже листопад уже прошел… Унылая пора, да и места здесь тоскливые, — на ломаном русском языке произнес один из путешественников, задумчиво глядя в окно.
Это был юноша двадцати двух лет, высокий, большеголовый, статный, даже немного грузный. Его собеседник — невысокий, атлетически сложенный мужчина в расцвете лет, в отличном костюме, с полностью оформившейся лысиной и короткой рыжеватой бородкой — был настроен куда более оптимистично.
— Не сомневаюсь, Бени, что ты полюбишь русскую столицу! — отвечал он. — Хотя солнце здесь светит гораздо реже, чем в твоей родной Италии, Петербург все же остается самым прекрасным городом на свете. Можешь поверить бывалому путешественнику.
— Быть может вы и правы, г-н Ульянов, но в таком случае мы еще не доехали до Санкт-Петербурга…
— Разумеется, мы еще только подъезжаем к Петербургу, но да будет тебе известно, что некоторые пригороды русской столицы по совершенству архитектурных ансамблей не уступают первым городам мира.
— Пригороды? — удивился Бени.
— Да-да, пригороды! — подтвердил Ульянов. — Гатчина, Царское Село, Павловск и, конечно, Петергоф… Ведь это о них:
Летят алмазные фонтаны С веселым шумом к облакам:
Под ними плещут истуканы И, мнится, живы; Фидий сам, Питомец Феба и Паллады, Любуясь ими, наконец, Свой очарованный резец Из рук бы выронил с досады.
Дробясь о мраморны преграды, Жемчужной, огненной дугой Валятся, плещут водопады; И ручейки в тени лесной Чуть вьются сонною волной.
Приют покоя и прохлады, Сквозь вечну зелень здесь и там Мелькают светлые беседки…
— Это вы сочинили? — наивно спросил Бени, недостаточно чувствовавший русский язык, чтобы сразу узнавать уверенную поступь классика.
— Ну что ты?! — усмехнулся Ульянов. — Каюсь: грешил в юности, но до таких высот не поднимался. Это Пушкин… Я очень люблю Пушкина, Бени, и часто его вспоминаю, особенно осенью. Отчасти ты прав: теперь уже слишком поздно. Посмотрел бы ты на эти леса месяц назад! Ты только вслушайся в эти строки:
Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса — Люблю я пышное природы увяданье, В багрец и в золото одетые леса…
— Как просто сказано, как спокойно, — и навсегда!.. Теперь уже так не говорят.
— А вам не кажется, г-н Ульянов, что в вас сейчас говорит свойственная людям тоска по прошлому?
— Нет, не кажется! — уверенно сказал Ульянов. — Здесь другое. Просто любая эпоха рождает своих гениев, но не в каждой области. Наша эпоха не породила гениев слова, равных Пушкину.
— Быть может наша эпоха взяла свое в социально-политической сфере? — предположил Бени.
— О, здесь трудно выдержать испытание временем! — усмехнулся Ульянов. — Одних потомки развенчивают, других — просто постепенно забывают, и это как нельзя лучше подтверждает постулат Маркса о том, что человеческое общество развивается поступательно.
— Так выпьем за Маркса, который никогда не ошибался?
— предложил юноша.
— Давай, Бени, лучше выпьем за русскую столицу… Если б ты знал, за какой прекрасной девушкой я ухаживал в Санкт-Петербурге десять лет назад…
— И к чему это привело? — спросил прямолинейный итальянец.
Ульянов задумался. Воспоминания охватили его.
— Она держала маленькую рюмочную на Мещанской улице… Наверно, я непростительно редко туда заходил… Все чего-то стеснялся… Порой мне кажется, что сейчас я сделал бы все гораздо лучше… Что все было совсем несложно, просто я был дурак… Но может мне это только так кажется… Когда-нибудь я расскажу тебе эту историю, а сейчас давай выпьем!
Пока Ульянов предавался воспоминаниям о своей юношеской страсти, в вагон-ресторан вошла женщина, которую он не любил никогда, но которой суждено было стать спутницей его жизни. Она приближалась к сотрапезникам неуклюжей походкой, свойственной немолодым и неловким особам при перемещении в мчащемся экспрессе.
— Володя! Бени! — еще издали заголосила Крупская. — Мы уже подъезжаем, а вы все еще здесь сидите.
— Не переживай, бабуля, — успокоил супругу Ульянов.
— Мы уже заканчиваем. Пойди, пока, уложи вещи, а мы через пять минут будем… Да, Бени, ты сам видишь: к чему это привело… Кстати, бабуля, ты не хочешь немного выпить?
— Ты же знаешь, что я не пью, Володя, — ответила Крупская тоном смиренной монашки.
— Да знаю я, что все человеческое тебе чуждо, — усмехнулся Ульянов. — Но по случаю возвращения в Санкт-Петербург могла бы и изменить своим принципам. В Швейцарии я и сам почти не пил. Там, собственно, и пить-то было не с кем. Но сейчас, чувствую, наверстаем!.. Ну, ладно, иди, бабуля. Мы скоро придем.
Полчаса спустя это странное трио вошло в пассажирский зал Варшавского вокзала. Ульянов свободно вздохнул, оглядывая высоченные потолки этого сооружения. Таких ему не доводилось видеть ни в Берлине, ни в Женеве, ни в Вене. Бойкие мужички торговали здесь водкой и солеными огурцами, пивом и селедкой, чаем и пирожками. Кругом было грязновато, но как-то отлично. Проходя мимо маленького кафе с тремя столиками и пивным краном на стойке, Ульянов заколебался — стоит ли пить пиво после водки.
— Владимир Ильич! — внезапно послышался у него за спиной знакомый голос.
Ульянов обернулся и сразу узнал Ника Буренина. Большой, румяный, всегда приятно пахнущий пивом — Ник был душой общества петербургских марксистов. Ульянов познакомился с ним пять лет назад, 20 мая 1900 года, во время своего последнего (нелегального) посещения Санкт-Петербурга.
— Здравствуйте, Ник! — обрадовался Ульянов. — Очень рад вас видеть.
— Взаимно, Владимир Ильич! Здравствуйте, Надежда Константиновна!
— Это Бени, — представил юношу Ульянов. — Наш итальянский товарищ.
— Очень приятно… Николай… Я чувствовал, Владимир Ильич, что вы приедете этим поездом. Вчера я навел справки: в меблированных комнатах «Сан-Ремо» есть свободные номера. Если вы не возражаете…
— «Сан-Ремо»? — переспросил Ульянов. — М-м, ну что ж, пожалуй.
Буренин предложил «закинуть» Крупскую с вещами в «Сан-Ремо» («Пусть Надежда Константиновна отдохнет с дороги!»), а затем отправиться на Преображенское кладбище — посетить могилы рабочих, расстрелянных в «кровавое воскресенье». При этом Ник заговорщически подмигнул Ульянову, и тот поспешил согласиться.
Час спустя, оставив Крупскую в меблированных комнатах, Ульянов, Буренин и Бени вышли на Невский проспект. Бени восторженно озирался по сторонам, а Ник посвящал Ульянова в свои планы.
— Вы, кажется, знаете Александру Коллонтай, Владимир Ильич?
— Конечно знаю, — ответил Ульянов. — Отличная баба!
— Так вот сегодня у нее собирается хорошая компания, и сейчас мы туда направляемся.
— А они что, начинают прямо с утра? — удивился Ульянов.
— Разумеется! — ответил Ник. — Мы собираемся специально по случаю вашего приезда.
Александра Коллонтай проживала на Николаевской улице. Ульянов познакомился с ней в тот же самый памятный день 20 мая 1900 года. Тогда на квартире В. Ф. Кожевниковой Ульянов встретился с петербургскими социал-демократами. Компания подобралась веселая: Горький, Пятницкий, Воровский, Красин, Кржижановский и многие другие, в том числе Коллонтай. Там случилась история, о которой следует рассказать особо, так как она заметно подняла авторитет Ульянова в среде питерских марксистов.
Выпив и закусив, молодые люди, как водится, заговорили о политике. После того как были обсуждены национальные проблемы в австрийской империи и бурное экономическое развитие Соединенных Штатов, разговор стал принимать более опасный характер. Уже коснулись гиблого еврейского вопроса, уже готов был прозвучать вечный тост «за свержение режима», но тут положение спас Максим Горький. Он вспомнил, как в детстве видел одного бурлака, который в пьяном виде клялся, что может выпить бутылку водки без помощи рук.
— Правда, — заметил в заключение Горький, — бурлак при мне не демонстрировал своего искусства.
— А что! — воскликнул Глеб Кржижановский. — Не перевелись ведь еще на Руси богатыри!
Вслед за этими словами он схватил зубами за горлышко стоявшую перед ним поллитровку, положил ее на край стола и даже успел сделать несколько глотков, прежде чем бутылка упала на пол. Затем последовали другие попытки (благо, поллитровок на столе было вдоволь!), но ни Воровскому, ни Красину, ни даже самому Льву Давидовичу Бронштейну не удалось достичь сколько-нибудь заметного успеха.