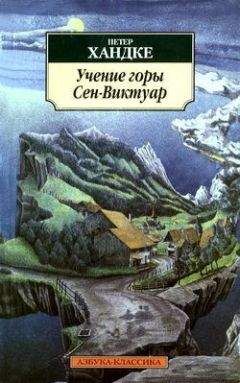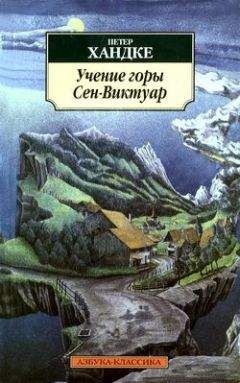Петер Хандке - Учение горы Сен-Виктуар
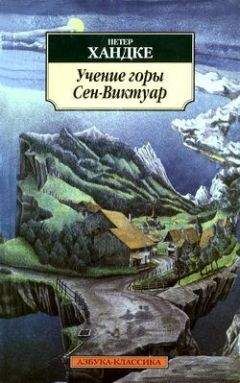
Обзор книги Петер Хандке - Учение горы Сен-Виктуар
Петер Хандке
Учение горы Сен-Виктуар
Герману Ленцу и Ханне Ленц с благодарностью за январь 1979 года
Нынешним вечером я расскажу вам сказку, которая напомнит вам обо всем и ни о чем.
Гёте. «Разговоры немецких беженцев»Большой круг
Вернувшись в Европу, я ощутил настоятельную потребность в насущных письменах и многое перечитал заново.
Обитатели глухой деревеньки в «Горном хрустале» Штифтера отличаются завидным постоянством. Если из какой-нибудь стены вываливается камень, они непременно вставят его обратно, новые дома строятся на манер старых, прохудившиеся крыши чинятся той же дранкой. Особенно наглядно и убедительно подобного рода постоянство прослеживается на примере животных: «Цвет остается в доме».
Кусты, деревья, небесные облака и даже асфальт — все играло и переливалось, но не от света того дня и не от времени года. Творения природы и человека, перемешанные друг с другом, доставили мне мгновение неизбывного блаженства, которое знакомо мне по тем образам, что являются на грани сна и яви (но только без таящегося в них ужаса, возвещающего приближение к последней, крайней черте), и которое именуется «Nunc stans» [1]: мгновение вечности. — Кусты были желтым дроком, деревья — отдельными коричневыми соснами, облака синели сквозь дымку, поднимавшуюся от земли, а небо (как мог еще спокойно позволить себе сказать Штифтер) было голубым. Я остановился на вершине одного из тех холмов, по которым проходит «Тропа Сезанна» — маршрут, начинающийся от Экс-ан-Прованс и ведущий к деревне Ле-Толонель.
Различать или, того хуже, называть цвета мне всегда доставляло трудность.
Гёте, немного кичившийся своими познаниями, упоминает в «Учении о цвете» двух субъектов, в одном из которых я отчасти узнаю себя. Оба они, например, «совершенно путали розовый цвет, голубой и сиреневый», поскольку разница между этими цветами состоит лишь в степени насыщенности и плотности, интенсивности и ослабленности. Один из означенных субъектов замечает в черном присутствие коричневатого оттенка, а в сером — присутствие рыжеватого. В целом же и тот и другой почти не чувствуют грани между светлым и темным. — Скорее всего, они больны, но Гёте рассматривает их как пограничные случаи. Правда, оговаривается: если предоставить беседе течь свободно и начать их спрашивать о находящихся перед ними предметах, то можно совершенно запутаться и скоро уже не знать, на каком ты свете.
Это замечание ученого, касающееся хорошо знакомого мне явления и вызвавшее в памяти все связанные с этим сложности, явило помимо всего прочего картину, в которой давнее прошлое слилось с настоящим: и уже в следующий момент «остановившегося теперь» я увидел тогдашних людей — родителей, братьев, сестер и даже бабушку с дедушкой, как они, объединившись с нынешними, потешаются над моими цветовыми характеристиками окружающих вещей. Похоже, это такая семейная забава: заставлять меня угадывать цвета, — игра, от которой, правда, запутываются не столько они, сколько я.
В отличие, однако, от тех субъектов, которых описывает Гёте, в моем случае речь не может идти о наследственном заболевании. В нашем роду я один такой. С течением времени, впрочем, я установил, что у меня нет того, что принято называть дальтонизмом, или иной особой формы этого нарушения. Иногда я вижу цвета: это мои цвета, и они правильные.
Недавно я стоял в снегу на вершине Утерсберга. Прямо надо мной, хоть бери руками, зависла на ветру черная ворона. Я видел воплощающую символ птицы неотъемлемую желтизну подобранных когтей, прижатых к телу; коричневое золото поблескивающих на солнце крыльев; синеву неба. — Сложенные вместе, они превращались в полосы на раскинувшейся воздушной материи, которую я в тот момент воспринял как трехцветный флаг. Это был флаг, который ни на что не притязал: вещь чистого цвета. С этого момента, однако, тканные флаги, которые в основном только закрывают собою вид, стали для меня чем-то вполне заслуживающим созерцания, ибо мое воображение удержало их мирный первосмысл.
Двадцать лет тому назад я проходил освидетельствование в связи с определением моей пригодности к воинской службе. При всем том, что я не слишком был дружен с цветом, мне как-то удалось более или менее точно вычленить из пестрого хаоса кружков и точек спрашиваемые цифры. Когда я затем сообщил домашним результаты обследования («годен к прохождению службы с использованием оружия»), отчим решил нарушить молчание — мы давно уже не разговаривали друг с другом — и сказал, что впервые гордится мной.
Я записываю все это, потому что мои устные рассказы о данном эпизоде отличались, как правило, неполнотой и к тому же страдали однозначностью, заведомо искажающей картину. Повествуя об отчиме, я всякий раз упоминал, что он был «навеселе». Эта сама по себе верная деталь разлаживает, однако, всю историю. Разве не вернее было бы сказать, что в тот день я смотрел на дом и сад, испытывая редкое чувство, будто я прибыл после долгого отсутствия? Реплика отчима сразу вызвала во мне отвращение. Но отчего она сохранилась в памяти вместе со свежим рыже-коричневым цветом земли в только что вскопанном этим человеком саду? И разве я сам не был отчасти горд собою, когда принес эту весть домой?
Цвет земли, во всяком случае, оказался в этой истории самым стойким. Когда я теперь возвращаюсь к тому моменту, я вижу себя не тем оцепеневшим юнцом, но обнаруживаю мое идеальное «я», вне времени, без четких очертаний, помещенным в самую сердцевину рыже-коричневого пространства, ясная проницаемость которого помогает мне понять не только себя самого, но и бывшего солдата. (К числу первых воспоминаний Штифтера относятся темные пятна внутри него. Позднее он установил, «что это были леса, которые находились снаружи». Теперь же его рассказы открывают мне все новые и новые яркие пятна в самых разных лесах.)
Во время франко-прусской войны 1870–1871 годов Поль Сезанн, благодаря своему отцу, богатому банкиру, сумел откупиться от службы в армии. Всю войну он провел, занимаясь живописью, в местечке Эстак, которое тогда было рыбачьей деревушкой на берегу бухты к западу от Марселя, а нынче уже относится к городу Банльё, крупному промышленному центру.
Я знаю это место только по картинам Сезанна. Но одно его название — Эстак — связывается у меня с представлением о мире и покое, обретающими сразу пространственность. Несмотря на все изменения, которые претерпел этот уголок земли, он остается «благословенным приютом», служившим укромным пристанищем не только до той войны 1870 года, и не только для тогдашнего художника, и не только ввиду объявленной войны.
Ведь и в последующие годы Сезанн частенько там работал, предпочитая устроиться где-нибудь на самой жаре, «под таким палящем солнцем», что ему самому начинало казаться, будто «все предметы ушли в тени, превратившись в пятна, причем не только черные или белые, но и синие, красные, коричневые и фиолетовые». Картины, созданные в этот период скрывательства, были почти все черно-белыми — в основном атмосфера зимы; впоследствии, однако, это место, с его красными крышами на фоне синего моря, превращается для него в любимую «карточную игру».
В письмах из Эстака он впервые добавляет к своему имени слово «художник», как некогда делали классические мастера. Деревушка оказалась тем местом, «которое я совершенно не тороплюсь покидать, потому что тут есть несколько очень красивых видов». В послевоенных картинах уже нет никакой атмосферы и никаких особых времен года или смены дня: энергичная форма являет вариации бесхитростного поселения на берегу Лазурного моря.
На рубеже веков в окрестностях Эстака построили очистные сооружения, и Сезанн перестал рисовать его; через несколько сотен лет тут будет уже просто бессмысленно жить. — Только на геологических картах этот район еще сохраняет свои неизменные краски, а небольшая зеленая полоска цвета резеды даже носит — и будет еще, видимо, долго носить — название «Эстакские известняки».
Именно ему, художнику Полю Сезанну, я обязан тем, что тогда, когда я стоял на вершине холма между Экс-ан-Провансом и деревушкой Ле-Толонель, мне открылись краски и даже асфальтированная дорога представилась цветной.
Я вырос в простой крестьянской среде, где картинки встречались только в церкви или в придорожных киотах; вот почему я с самого начала воспринимал их лишь как обыкновенную деталь обстановки и не ожидал от них ничего примечательного. Иногда я даже понимал смысл запрета, накладываемого церковью и государством на изображение, и мечтал, чтобы такой запрет был адресован мне, раз я не умею толком смотреть и всегда отвлекаюсь. Не правильнее ли отдать предпочтение тому, что противоположно изображению: орнаменту, который можно длить до бесконечности и который потому более отвечает моей потребности в безграничном, развивая ее и укрепляя? (При виде фрагмента древнеримского мозаичного пола мне удалось в какой-то момент вообразить себе умирание как чудесный переход, не ограниченный обычным сокращением — «смерть».) — И не есть ли начало всего совершенная, бесформенная, бесцветная пустота, которая потому и может потом наичудеснейшим образом заполняться жизнью? (Сюда так и просится фраза, сказанная однажды священником из другой «глухой деревеньки» — ни один мирянин не мог бы позволить себе огласить подобного рода суждение — и заслуживающая того, чтобы быть приведенной здесь хотя бы из-за «довеска», что следует за последним «и»: «Бесконечный любовный экстаз, в котором сливается душа и Бог, вот что такое небеса небесные и прочие небеса».)