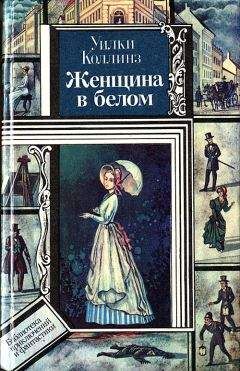Татьяна Мудрая - Пантера, сын Пантеры
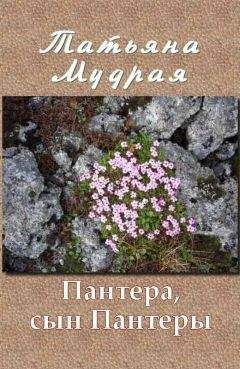
Обзор книги Татьяна Мудрая - Пантера, сын Пантеры
Тациана Мудрая
Пантера, сын Пантеры
«А потом я нашел вход в нижние ярусы храма, на нижних ярусах я нашел библиотеку, а в библиотеке я нашел библиотекаря».
Генри Лайон Олди. Ожидающий на перекресткахПролог. Яблоня
«Дерево Сфера царствует здесь над другими.
Дерево сфера — это значок беспредельности дерева,
Это итог числовых операций».
…Она проснулась внутри своего зимнего сна от тепла и жара, многократно превосходящих те, которые каждую весну заставляли ее уснувшую кровь устремляться по жилам, направляя ее, вначале густую и тягучую, а вскоре бурливую и едва ли не кипящую, от корней в ствол, из ствола в ветви и почки, листья и цветы, снова сгущая — в завязь плода. Тогда она сама, во всей дикой красоте своей, становилась лишь путем для налитого яблока, оно же — ее исходом и истоком, причиной и следствием, концом и венцом одновременно. Но и теперь, когда среди потрясенных и одетых тьмой и углем снегов яро цвело лишь пламя, Яблоня все же сумела, еще глубже погрузившись в себя, нащупать тот прежний свой путь, не зависящий ни от каких времен и условий, и развернуть его вглубь. Побуждало ее к сотворению нового то, что человек воспринял бы как несомненную боль и отшатнулся в страхе. И вот Дерево двинулось вспять: от чаши веток к чаше корней, от коры и заболони к ядру, в цветущую трость, в меч, одетый камнем, в изначальное семя, едва присыпанное тощей землей, едва ли не в спору — и каждое слово на этом его пути приобретало весомость и определенность знака.
Такое она отроду умела делать — сгорать дотла и воскресать из праха. Всякий раз, когда пожар уничтожал Лес, или Дом, или даже самою Деву-Книгу, существа, которые, по сути, были одной субстанцией, мерцающей в различных формах, — Дерево умело спасти в себе остаток, каплю, тот клубок, в котором невесомой пружиной свернулось бытие.
Но на сей раз, когда оно встало на грани бытия и небытия, хаоса и упорядоченности, Дерево внезапно натолкнулось на чужую волю, ни на что не похожую, почти незаметную, но въевшуюся, как песчинка во влажную плоть моллюска, словно горчичное зерно в тучную землю. Эта воля еле слышно просила и упрямо повелевала, и в ней, в следовании ей было наслаждение куда более мощное, боль куда более властная, чем в любом земном пламени. Уйти от этой чуждой воли было невозможно; она проникла в спору и отяжелила собой семя, натянула на себя покрывала древесности, коры, листвы и цвета, окуталась стихиями огня, праха, дождя и ветра.
«Ныне я, как и ты, лишь разрозненные угли, ставшие своей тенью листы, но каждая моя частица, как и твоя, хранит былую память. Я — призрачные плоды в хрустальной чаше небес, я — горделивый ствол в объятии давних весенних хороводов, и ветви, на которых вьются узкие флаги пестрых лент. Я — глухой сон корней, у которых лежит секира. Как это соединить? Я — это ты и я древнее, чем ты, но себя я не знаю. Не отвергай меня из-за моей безвестности и безгласности. Дай мне укрепиться в сердце твоей жизни, чтобы и я могла родиться, когда ты вернешься в этот грозный мир».
И дерево дало молчаливый ответ. Когда буйство вокруг кончилось и Яблоня смогла вернуться к себе, обернуться лицом к прежней яви, ныне черно-белой, с волглыми и едкими запахами подтаявшего снега, осевшей на него гари, и алой — то мерцало под облаками нечто, заменившее собой закат, от нее остался на виду лишь мертвый ствол. Но когда она все же могла пустить свежий росток от зримого корня и незримого семени, этот росток оперся на обугленную трость, в одно лето поднявшись в рост человека. На следующую весну деревце пышно оделось розовым и белым, а на следующее лето цветы, не такие красивые, дали, наконец, завязь. Яблоки были темно-красные, как вино, с белой плотью, просвечивающей сквозь тонкую кожуру.
Но замшелый обрубок старого ствола с треснувшей мертвой корой по-прежнему обнимал шею молодого дерева, как его старший и мрачный близнец.
Послелог. Возрождение Дома
…В этом благом, сияющем мире она жила лишь одной внешней поверхностью души, как бы обугленной и потерявшей способность чувствовать; жила, надежно укрывшись сама в себе. Ее сущность изначально была задумана столь богатой и многообразной, что и ничтожной ее частицы хватало прежде для вполне пристойной имитации нормального существования. Здесь не существовали, тут жили; однако и она достигла полной зрелости, так что внешняя сторона ее Луны стояла вровень с полными планетами и созвездиями чужих жизней.
Беда в том, что — если прибегнуть к терминам стародавней книжной премудрости — эта внешность принадлежала некоему викторианскому субъекту, не обремененному знанием о своих «оно», «эго» и «суперэго» и наслаждающемуся безмятежным плаванием в теплых матерних водах, которые еще не рассек своим жестким скальным телом суровый материк, открытый капитаном Фрейдом. И беда еще наигорчайшая: сей черный материк, черный обелиск, который она в неприветливом мире своей молодости сумела осознать и даже тайком обустроить, мало того — сделать своей истинной жизнью и радостью, именно здесь, где все были открыты до самого донца, где все поняли и приняли бы в ней что угодно, пришлось утопить, закрыть и прятать уже от себя самой. Такие горькие истины его населили, с такими страшными тайнами пришлось ей соприкоснуться.
Затерянная Вест-Индия духа. Америка, которую, по нахальному предложению одного поэта, закрыли для чистки — и, возможно, навсегда.
А вокруг бурлила пестрая, похожая на жар-птицу, уютная, пускай в чем-то суетная и мелководная жизнь Запретного Городка Харам, замкнутого рощей, забранного стеной из вистерии, чубушника и плетистой розы, соединенного с дворцом каменистыми тропками, арочными мостиками над бегущей водой, вечнозелеными галереями парковых лабиринтов. Места, доверху наполненного шелестом воды, щебетом птиц и детей, воркованием девушек, ароматами цветов и благовоний, чье неровное дыхание выправлялось тугим ритмом больших ковровых станов, ясным звоном чекана, выбивающего узор по серебру и меди. Город мастериц.
Все это так же, как и ее бытование, было внешней жизнью, «ближней», как здесь говорили: по виду богатая и красочная, она легко бы завяла без того, что было ее сердцевиной. Мало кто из гостей был допущен к жизни истинной и глубинной: разве что учителя, врачи и те мальчики, которых поначалу, лет до девяти-десяти, выпасали в Хараме вместе с девочками. Ведь детей обоего пола тут бывало побольше, чем взрослых женщин, и любили их, не различая, из чьего они чрева. Уже много позже мальчики переходили в безраздельное ведение мужчин, которые наделяли их своим особенным знанием, но и тогда не порывали связей с тем, что их вскормило и породило. А девочки навсегда оставались в ограде, бок о бок с тайной, которая всё более становилась их собственной и даже — ими самими. Это отделяло их от мужчин и мужчин — от них, и длилось это до той поры, пока обоюдная зрелость не заставляла их наводить мосты.
«Положение грани» между полами было законом для всех, кроме Зоро. Он оставался неизменно. Он пребывал.
Зоро был единственный, кто без ущерба для своего спокойствия перевалил и через девять, и через двенадцать, и через пятнадцать мальчишеских лет — а последнее было временем, когда юнцы вполне законно начинают женихаться и оттого необходимым становится укреплять женскую территорию от проникновений, недостаточно благоговейных. Изящный и горделиво сдержанный, как девица, сильный и смуглотелый, как эфеб, Зоро взирал на мир с упоением женщины, уже познавшей любовь и материнство, с мягкой иронией и достоинством среброголового старца. Он был всем, и всё было им; одним он не обладал ни в какой мере — плотной телесной грубостью перезревшего мужчины. Тайна, сопровождавшая его зачатие и рождение, никуда не ушла, только растворилась и слегка померкла — чудо в краю немногим меньших чудес.
Назвали его, как было принято на ее бывшей родине, по известной книге: Зорро — родом испанец, потомок благородных конквистадоров, крепких духом и изощренных разумом, честь которых подобна их прямому и тонкому клинку. Книга та, до дырок зачитанная и заэкранизированная прошлыми поколениями, истертая до переплета каллиграфическими перезаписями, искаженная стараниями многих поколений графиков, всё-таки никогда не могла быть исчерпана до конца. И в этом была сугубая мудрость.
В том, что самого Зоро допускали в Харам, скрывалась мудрость не меньшая; потому что внутри Харама жила Нееми.
Нееми, девочка, в чьем имени — Ноэми, Ноэминь — как и в теле, был разлит темный мед. То, что Зоро, явно или скрыто, но всё время находился рядом с ней, любуясь или только помышляя, лучше и надежнее всех оград и всех дворцовых гвардий оберегало ее от иных взглядов и улыбок. «Сводные брат и сестра от различного семени», — так называли их наполовину в шутку, и ещё: «нечаянные близнецы». Ибо были они оба едва ли не на одно лицо, хотя не было в них ни одной капли общей крови. (Духовное родство, родство по мечте — это было слишком давней и запутанной историей, о которой не было смысла тут вспоминать.) Высокие, не по возрасту стройные, широкоплечие и узкобедрые, они, держась за руки, представляли собой как бы аверс и реверс одной бронзовой монеты-пароля, две грани единой человеческой сущности — и уж явно куда большее, чем супружескую пару, которой в мечтах и еще очень робко намеревались стать. И мешал чинному их сговору вовсе не возраст, ведали здесь влюбленных и помоложе; и не упрямство родителей — через этот этап они уже прошли, едва заметив. Был у них один на двоих замысел и одно устремление, и лишь с ними они связывали устройство своей дальнейшей судьбы.