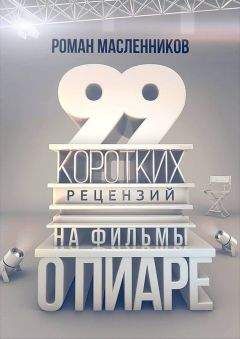Александр Максик - Недостойный

Обзор книги Александр Максик - Недостойный
Александр Максик
Недостойный
Посвящается моим родителям и памяти Тома Джонсона
Я не хочу выбирать между лицом и изнанкой мира, и мне не нравится, когда выбор сделан.
Альбер КамюГилад, 24 года
Ты где-то живешь. А потом вдруг живешь уже в другом месте. Это не сложно. Садишься в самолет. Взлетаешь. Люди постоянно говорят о доме. О своих домах. О соседях. В кино именно оттуда люди уезжают, именно туда приезжают. В кино этого полно. Улица. Квартал. Обед. Итальянские фильмы. Фильмы про чернокожих. Про евреев. В Бруклине или где угодно.
Но у меня этого никогда не было по-настоящему. Улица никогда не была моей стихией. У меня никогда не было любимого дома. И разглагольствования о том, что «ничего нет лучше родного дома», не слишком меня трогают. При мысли о доме я представляю себе жизнь в каком-то месте, а затем — через несколько часов — уже в другом. Ты просыпаешься, делаешь обычные дела, ешь, ложишься спать, просыпаешься, ешь, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Одно и то же на протяжении дней, месяцев и лет. А потом, в один прекрасный день, ты уже больше там не живешь.
Люди всегда говорят, мол, трудно переезжать с места на место. Ничего подобного.
Когда я приехал сюда, мне было семнадцать лет. Мы приехали из Эр-Рияда, где прожили почти два года. У меня было три недели на то, чтобы собрать свои вещи, «подготовиться». Это в духе моего отца — дать три недели на «подготовку». Я честно не знаю, что это означает. На упаковку своих сумок мне хватило часа. В школе я никому не сказал, что мы переезжаем.
Тот год закончился, я какое-то время поболтался у бассейна, а потом мы сели в самолет и улетели. Вот так это и произошло. Я ничего особенного не почувствовал. Меня лишь в очередной раз поразило, что мир просто исчезает у тебя за спиной, что одна жизнь превращается в другую, превращается в другую, в другую.
А потом мы жили в Париже.
Мы жили в Дубае, Шанхае, Токио, Куала-Лумпуре, Сеуле, Иерусалиме и Эр-Рияде. А потом в Париже. В Париже все оказалось совсем иначе, потому что он стал последним городом, куда мы переехали как единая семья. Последним городом, который мне навязали.
Уилл, 38 лет
Оптимизм, чувство осуществимости и надежды приходит в конце августа. Новые ручки, романы без пометок, свежие учебники и обещание, что год будет лучше. Время размышлений — это не январь, а июнь.
Минул еще один год, ученики ушли, в коридорах тишина. Тебя оставили в покое. Опустевшая на лето школа напоминает закрытую на зиму гостиницу или закрытую на ночь библиотеку, где по комнатам летают привидения.
Стремительный распад. Звенит звонок, и все разлетается навстречу яркому дню. Ты выходишь на солнечный свет, ослепленный сиянием.
Окна открыты. Я стою в углу класса. Июньский ветерок качает тополя на дальнем конце поля. В коридорах тихо, ученики на собрании.
На стенах висят пятнадцать портретов членов семьи Бандрен. Еще плакат с рекламой забытой постановки «Макбета» Королевской шекспировской труппы, Жан-Поль Сартр и Жан Пуйон на Мосту искусств на снимке Картье-Брессона. Еще один Сартр в кафе де Флор, фотография Камю, курящего сигарету, старая афиша «Хладнокровного Люка» и другая, премьерная, «Поздних часов». Здесь и Томми Смит, и Джон Карлос на олимпийском пьедестале — оба наклонили голову и подняли сжатую в кулак руку в знак протеста против расизма в США.
Лоренс Оливье в роли Гамлета и доска объявлений, увешанная стихами, Хемингуэй и Сильвия Бич застыли перед книжным магазином «Шекспир и К°».
В передней части класса — металлический письменный стол. Как и все остальное здесь, он обшарпанный и колченогий. На карнизах с древними и давно не действующими раздвижными механизмами висят тяжелые серые шторы. Флуоресцентные лампы и тонкий коричневый ковер. Всё в стиле американских муниципальных школ семидесятых годов — типичное и убогое.
Два одинаковых этажа — длинные коридоры, вдоль них металлические шкафчики для вещей и классы. Ради безопасности школа окружена высоким черным металлическим забором. Находясь внутри, можно с таким же успехом представить, что ты в Финиксе.
Ветерок, продувающий мой класс, создает прохладу. Через несколько часов ученики покинут школу, с ними уйдут шум и лицедейство. Все закончилось, оценки за эссе поставлены, заключительные отчеты написаны.
Последний день в школе. Мы возвращаем итоговые экзаменационные работы. Прощаемся. Наводим ревизию в своих шкафчиках. Подъезжают автобусы, и покинутое здание погружается в тишину.
Первый урок, я жду своих десятиклассников. Есть такие классы — вежливые, добрые и умные ученики собраны вместе на год. Это становится ясно при первой же встрече с ними. Вы словно семья. У вас своего рода роман.
В дальнем конце школы они валят из актового зала. Мистер Спенсер уже пожелал им хорошего лета. Прочел что-то — цитату, стихотворение, которое посчитал вдохновляющим. Мистер Горинг почесывает в затылке, просматривая расписание на день. Он напоминает, что все шкафчики нужно освободить от вещей. В холлах будут стоять корзины для мусора. Пожалуйста, воспользуйтесь ими. Ученики, уважайте свою школу. Не бегайте. Просьба: никакой беготни.
Их отпустили, и они идут по коридору. Некоторые машут мне, проходя мимо моего класса.
— Как дела, мистер С.?
— Хорошего лета, мистер С., не переутомитесь на вечеринках.
Входит Джулия, собирая в хвост свои светлые кудрявые волосы.
Она — первая.
— Последний день в школе, — говорю я.
— Правда? Неужели? — закатывает Джулия глаза.
— Так говорят. Очень печально.
Она кивает.
Я присаживаюсь на стол и перебираю стопку экзаменационных работ, нахожу листки Джулии.
— Итак… — произношу я.
— Итак, послушайте, мистер С. Мне будет не хватать вас этим летом, и я хочу, чтобы вы знали: мне действительно понравились ваши уроки, и я считаю вас замечательным учителем. — Она краснеет. — Поэтому спасибо вам за все. Вы, можно сказать, изменили мою жизнь.
— Спасибо, Джулия. Мне было приятно иметь такую ученицу.
Она смотрит в пол.
Стивен Коннор вваливается в класс — невысокий, грубовато-добродушный, грудь колесом.
— Мистер С.! — восклицает он и протягивает мне руку, маленький бизнесмен. — Как у вас дела, мистер С.? Знаете, я буду скучать по вашим занятиям, честно. Почему вы не преподаете в предпоследнем классе? Обидно. Какого черта я буду делать на следующий год?
Склонив голову набок, он смотрит мне в глаза. Мы обмениваемся рукопожатием. Затем он замечает Джулию.
— Я не помешал?
— Нет, Стив, — хихикает Джулия.
В класс вбегает Мазин, худенький, улыбающийся иорданец, и обнимает меня.
— Старина, мистер С. Старина. Нам что, повеситься этим летом? Ведь мне будет так не хватать ваших уроков, приятель. Но вы придете ко мне на вечеринку, правда? Вы получили приглашение?
— Приду. Буду у тебя в воскресенье вечером. Не сомневайся.
Классная комната медленно заполняется.
Сидя, как обычно, на краю своего стола, я обвожу их взглядом. Они чего-то ждут от меня, какого-то заключения, официального завершения года.
Оттолкнувшись от стола, я встаю.
— Последний день в школе. До конца нашего совместного года осталось несколько минут. Здесь у меня ваши экзаменационные работы, и я раздам их перед уходом. Но прежде хочу кое-что сказать. Я хочу, чтобы вы знали: не часто бывает такой класс, как ваш. В этом году мне очень повезло. Вы исключительные. Вы были честными, добрыми, смешными, отважными, открытыми и щедрыми. Вы проявляли энтузиазм, интерес и приходили сюда день за днем, всегда готовые поразмыслить над тем, что я сказал. Как учитель, я всегда мечтал войти в класс, сесть и принять участие в толковой, увлекательной беседе о литературе и философии. Мы — умные люди, сидящие в классе и рассуждающие о прекрасных, отвратительных и сложных вещах. Мы были таким классом. Я благодарен вам. Вы напомнили мне, зачем я здесь нахожусь, мне было очень приятно вас учить.
Джулия принимается плакать. Мазин смотрит на стол.
— Вам известно, что я считаю важным. Известно, что скажу вам о выборе, о вашей жизни и о времени. Вы помните, надеюсь, наши дискуссии по поводу «Оды на греческую урну». «Оды на греческую урну», которую кто написал, Мазин?
Долгая пауза.
— Джон Китс, мистер Силвер, — с гордостью отвечает он.
— Джон Китс. — Я улыбаюсь ему. — Вы забудете большую часть того, что обсуждалось в этом классе. Забудете Уилфреда Оуэна и «Гроздья гнева», Торо, Эмерсона и Блейка, разницу между рыцарским романом и романтизмом, между романтизмом и трансцендентализмом. Все это расплывется, превращаясь в водоворот информации, пополняющей разрастающееся болото в ваших мозгах. Ничего страшного. А вот о чем вы забывать не должны, так это о вопросах, которые ставят перед вами авторы, — о вопросах мужества, страсти и веры. Вот этого не забывайте.