Вильгельм Генацино - Женщина, квартира, роман
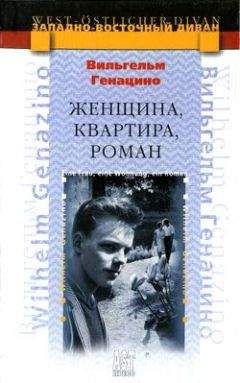
Обзор книги Вильгельм Генацино - Женщина, квартира, роман
Вильгельм Генацино
Женщина, квартира, роман
1 глава
В семнадцать я докатился до того, что без всяких особых намерений стал вести двойную жизнь. Незадолго до этого я вылетел из гимназии, и мне пришлось, по настоянию родителей, пойти в ученики. Сам я тогда не знал, какая из профессий влечет меня. Я был в полной растерянности, но очень хотел успокоить перепуганных насмерть родителей. Идти в ученики мне не улыбалось, но в конце концов я уступил уговорам матери и позволил отвести меня за руку сразу в несколько мест. Беседы о приеме на работу протекали в тягостной и мучительной обстановке. Каждый раз, входя следом за матерью в кабинет шефа, я чувствовал себя затравленным зверьком. Вместо того чтобы произвести хорошее впечатление, я только молча слушал и оглядывался по сторонам. Ни один шеф мне не нравился, я им тоже. А в это утро вообще все шло наперекосяк. Мы сидели напротив управляющего делами большой садоводческой фирмы. Он держал в руках мое свидетельство из гимназии и не скрывал своих сомнений. Даже у садовника оценки по общеобразовательным предметам должны быть выше посредственных, сказал шеф и посмотрел мне прямо в яйцо. Я не решился ответить ему, за меня говорила мать. Она искала все новые и новые оправдания моим плохим отметкам. Например, она вдруг сказала, что и хирург Фердинанд Зауэрбрух[1] тоже был очень плохим учеником, а ведь поди ж ты, стал всемирно известным врачом. Мы с шефом были просто сражены этим фактом и оба уставились на мою мать. Как ей могло прийти в голову связать жалкое существование какого-то школьника-неудачника с жизнью знаменитого Фердинанда Зауэрбруха? Этот управляющий хотел, вероятно, всего лишь выяснить, умею ли я вообще разговаривать. Но меня как заклинило, я не разжимал рта. Я вроде бы смотрел ему в лицо, но на самом деле взгляд мой скользил мимо. За его спиной было большое окно, откуда открывался вид на оживленную улицу. Как раз в этот момент какой-то человек наклеивал на рекламный щит новый плакат. Это был огромный красочный плакат, рекламировавший новый сорт полугорького шоколада. Не прошло и полминуты, как я полностью погрузился в это слово. Я понял, что и сам нахожусь в такой же «полугорькой» ситуации и что этот плакат помог мне осознать мое положение. За эту неожиданную помощь я внезапно воспылал к нему благодарностью. Больше всего мне хотелось записать слово, но сейчас это было невозможно, так что я постарался запомнить его. Дело было в том, что с пятнадцати лет я почти ежедневно занимался литературой. Я читал и писал, писал и читал. Я сочинял маленькие очерки и короткие рассказы и беспорядочно рассылал их в редакции газет и журналов. Спектр изданий был самым разношерстным – от еженедельника с названием «Лукулл», типичного журнальчика для потребителей, всегда лежавшего в мясной лавке, где мы тоже покупали все для дома, до мюнхенского журнала «Симплициссимус», известного не только сатирико-политическими текстами, но и своим славным прошлым, о котором я тогда не имел ни малейшего понятия. Через две минуты шеф дал понять, что «полугорький» разговор о поступлении в ученики незадолго до того, как окончательно стать горьким, закончен и мы можем идти. Мама снова сунула мое злополучное свидетельство в сумочку. Было ясно, что садовником мне не быть, но я нисколько не огорчился. Мне только жалко было мать, она опять сильно расстроилась. Даже в трамвае, на обратном пути домой, ее печаль не рассеялась. Я очень надеялся, что мать не будет хотя бы упрекать меня. Она и в самом деле всю дорогу молчала. И мне очень хотелось поблагодарить ее за это, но я все еще не мог выдавить из себя ни слова. За окном какой-то молодой человек раздавил на остановке о наш трамвай окурок. Я не сдержался и глупо засмеялся. Мать тотчас же посмотрела на меня. Она не понимала, как можно хихикать после такого неудачного дня. Я и сам этого не понимал. Рассердившись, мать нарочно подчеркнуто враждебно стала смотреть мимо меня. Я ничем не выдал себя, что еще меньше, чем свой собственный неуместный смех, понимаю этот ее преследующий двойную цель взгляд (с одной стороны, не смотреть на меня, с другой – держать под прицелом).
Дома меня ждали более приятные неожиданности. Два журнала – один иллюстрированный, посвященный вопросам защиты животных, и один информационный, бюллетень союза фармацевтов, – поместили мои коротенькие заметки и прислали мне обязательные авторские экземпляры. Я уселся в кухне, прочел свои публикации и возрадовался. Мать заперлась в спальне. Кажется, я не был безмерно удивлен, что мои тексты напечатали. и в семнадцать я мнил себя писателем, только не решался объявить об этом прилюдно. Мне было ясно, куда бы я рано или поздно ни поступил учеником, все равно это будет для меня временным пристанищем. В действительности я хотел одного – писать, и чтобы это стало моей главной профессией, причем немедленно. Но как так сделать, я не знал, что и нагоняло на меня тоску. Я спрятал журналы и вскрыл другие конверты. В них лежали тексты, присланные мне назад. Я и их прочел еще раз, задавая себе вопрос, чем же они не подошли. Наиболее интересные из них я вложил в новые конверты и послал в редакции других журналов. Я прислушивался к зловещей тишине в квартире – ни звука, ни шороха. Было не очень приятно сидеть так долго в кухне одному после очередной неудачной попытки устроиться на работу. Прошло уже три недели, как меня вышвырнули из гимназии. До весны, когда я предположительно все-таки должен был поступить куда-нибудь учеником, оставалось еще два-три месяца свободного времени, мне хотелось потратить его на то, чтобы побольше побродить, подумать и начать писать. Мать из спальни не выходила. Она давно уже не разговаривала со мной о своих делах. Когда мне было четырнадцать, я посоветовал ей развестись. Тогда я себе так представлял ситуацию: она возьмет меня за руку, и мы начнем с ней новую жизнь. Но мать не нашла в себе сил для нового разбега, наоборот, от года к году она становилась все молчаливее, слабее и ко всему безразличнее. Порой она даже не замечала, что я сижу рядом с ней за столом и только жду, чтобы она поманила меня начать новую жизнь. Сейчас же я сидел и смотрел на свои неотправленные конверты. Во мне боролись два чувства – желанного и такого нежелательного одиночества. Чем тише становилось в доме, тем больше угадывалась за скудостью дня скудость и убогость самой жизни. Зачем же позволять унынию овладевать моей душой? Я взял конверты и вышел из дома.
На почте в это время, к счастью, народ не толпился. Наклеивая марки, я увидел перед окошком слева от себя забытый кем-то букет роз. Завернутые в тонкую бумагу бледные розы никого вокруг не волновали. Я вспомнил про Гудрун, я собирался попозже зайти за ней после работы. Она очень обрадуется, если я встречу ее с цветами. Я подошел к тому левому окошку и снова купил для проформы десять почтовых марок про запас, для следующей отсылки рукописей, которые не заставят себя долго ждать. Отходя от окошка, я забрал букет и уже дошел с ним почти до самой двери, как вдруг услышал позади себя голос почтового служащего, тот даже привстал, чтобы докричаться до меня. «Разве это ваши цветы?» – спросил он меня, перекрывая голосом все пространство. «Нет, – ответил я и пошел назад к окошку, – я подумал, их кто-то забыл, я хочу сказать, потерял, ушел и оставил, и, если я их не возьму, их просто выбросят». – «Ах, вот как! – воскликнул почтовый служащий. – Да разве можно брать чужой букет! Наверняка тот, кто забыл его, сейчас вернется за ним, так что положите цветы на место!» Мужчина решительно отобрал у меня букет, а может, я и сам протянул ему розы через стойку. Я не стал задерживаться на почте и смотреть, как он осудительно качает головой, а быстренько повернулся и тут же ретировался.
Дважды за этот день меня постигла неудача, пусть на сей раз и пустяковая. Но по сути, как в первом, так и во втором случае я не смог соответствовать ситуации. Я принялся бесцельно бродить по городу, молча изучая, что лежит на задних сиденьях припаркованных машин. Через какое-то время я начал вслух называть увиденные мною предметы. Журнал. Карта города. Авоська. Меховая шапка. Апельсины. Шерстяной плед. Перчатки. Пустышка. Трубка. Странное дело, но за этим занятием я перестал ощущать себя неудачником. Я прошел примерно три улицы, заглядывая в стоящие на обочине машины, и произнес вполголоса в общей сложности, наверное, двести слов. Мое настроение решительно изменилось, я вновь почувствовал себя на коне. Еще два года назад я скитался по этим улицам в поисках так называемого литературного кафе. В книгах я читал, что писатели обязательно встречаются в кафе и даже сидят там и пишут. Но к сожалению, мои поиски не увенчались тогда успехом. Не было в нашем городе ни литературного кафе, ни пишущих там писателей. Однако я наткнулся во время своих блужданий на несколько похожих заведений и среди них на кафе «Хильда», куда сейчас и вошел. Оно представляло собой большое мрачное помещение с потемневшими от времени обоями и несколькими круглыми, шарообразными лампами, низко свисавшими с потолка. Кафе «Хильда» (как и значительная часть его посетителей) уцелело еще с послевоенных времен. Внутри пахло горелым молоком, порошковым какао, дровами и тортами. Весь обслуживающий персонал состоял из одной, уже немолодой, сильно накрашенной женщины в черных шерстяных носках поверх нейлоновых чулок и туфлях с золотыми блестками. Бедра у нее были обтянуты узенькой юбочкой, а поверх юбки надет длинный и тоже в обтяжку свитер. Время от времени она уходила за стойку и подводила карандашом глаза. Я сел в самый дальний угол, откуда мог наблюдать за стойкой и входной Дверью. Кроме того, справа от меня находился так называемый читальный уголок. Я робко поискал новые для себя журналы, куда можно было бы отправить свои тексты. Найдя такой, показавшийся мне перспективным, я списал адрес редакции. На стойке крутилась под стеклянным колпаком круглая ваза-этажерка, где на трех уровнях размещались четыре начатых торта. Вместе с вазой вращались две небольшие неоновые трубки, заливая торты безжизненным холодным светом, точь-в-точь как на вокзале. В те минуты, когда не было работы, женщина останавливалась возле крутящейся этажерки и смотрела на вращающиеся торты. Я тоже время от времени глядел туда и не мог объяснить, чем меня завораживает эта картина. В кафе вошла женщина с ребенком и поискала глазами столик недалеко от меня. В руках у нее была хозяйственная сумка, откуда выглядывали две рыбьи головы. Рыба была завернута в газету, но обертка по дороге съехала, а женщина этого, очевидно, не заметила. Так что из-под стола, за который села женщина, теперь поблескивали две золотистые копченые селедки. Ребенок сказал, обращаясь к женщине: ты самая лучшая мамочка на свете. Женщина была тронута и взглянула на меня. Я подал знак, что слышал реплику ребенка и понимаю ее материнскую растроганность. Не прошло и полминуты, как мне захотелось писать. Я достал из кармана куртки пустой конверт и стал описывать разыгравшиеся у меня на глазах сценки. Начал я с матери и ребенка. Ребенок сказал женщине: ты самая лучшая мамочка на свете. Женщина была тронута и взглянула на меня. Ребенок сказал это так, писал я, будто бы собрал сведения о многих матерях и его собственная мать оказалась в их ряду победительницей. Внезапно мой собственный текст показался мне чужим. Мне не понравилось, что я подвергаю критике ребенка. Выходит, я захотел описать эту небольшую сценку только для того, чтобы опротестовать мысли пятилетнего малыша? Тогда я начал спрашивать себя при каждой следующей фразе, прежде чем написать ее, достаточно ли она хороша или всего лишь правдива, или, может, только хороша, но недостаточно правдива; а может, только интеллигентна, но зато отмечена налетом грусти; или, может, она хороша и печальна, но, к сожалению, недостаточно правдива; или только правдива, но недостаточно хороша; или только выразительна, но недостаточно хороша и правдива; или только интересна сама по себе, но не выразительна и недостаточно правдива и вообще плохо написана. Вскоре я перестал писать и устало обвел зал глазами. Отдельные детали нравились мне тем больше, чем дольше я их разглядывал (темные обои, желтые лампы-шары, крутящиеся тарелки с тортами, черные шерстяные носки, отливающие золотом копченые головы селедок), но мне пока никак не удавалось передать несколькими незначительными фразами тот удивительный покой, который исходил, казалось бы, от их гротескового и потому несовместимого соседства.



