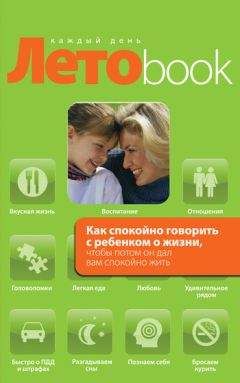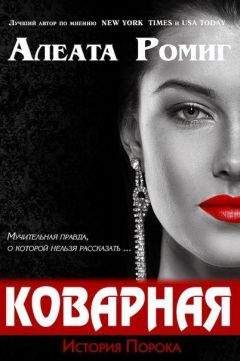Венди Герра - Все уезжают
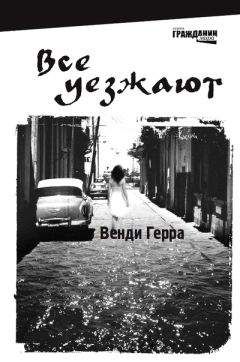
Обзор книги Венди Герра - Все уезжают
Венди Герра
Все уезжают
Нас не касается этот ужас, но мы вечно в тревоге и страхе за всех, кто нам дорог, за всех, кому нельзя помочь[1].
Анна Франк. Дневник от 19 ноября 1942 годаНе помню, когда именно я решила, что пора перестать быть ребенком.
За то, что росла в одиночестве, в то время как все уезжали из страны, я заплатила очень высокую цену. Они постепенно покидали меня; сегодня я не могу вести себя, как нормальная женщина, — я отгорожена от остального мира. Инструменты, которыми меня снабдили, для нормальной жизни не годятся; я жила изгнанницей в Дневнике и лишь на его страницах чувствовала себя уютно и безопасно. В нем я всегда была взрослой и только притворялась ребенком, хотя вернее — я была чересчур взрослой для Дневника и чересчур ребенком для реальной жизни.
Я исповедовалась на его страницах с тех пор, как научилась читать и писать. Я мечтала поскорее вырасти, вбирала в себя все, что происходило вокруг, и украдкой писала, чтобы тем самым очиститься и отыскать выход, которого не нашла до сих пор. Теперь я не способна совершить то, чего от меня ждут. Я оставляла кусочки себя в каждом из мест, куда попадала против своей воли, и сегодня не знаю, как собрать воедино свой рассыпавшийся в прах мир.
Моих родителей уже нет, они ушли один за другим. Однако, осиротев, я ощущаю их влияние больше, чем в их присутствии, когда они заставляли меня подчиняться своим правилам. Вспоминается Сьенфуэгос (город моего детства, который пугает меня), дело моей матери, суд, назначивший надо мной опеку, мое собственное дело.
Чтение обоих дневников, детского и юношеского, стало для меня путешествием в страдание. Я вывернула себя наизнанку, как перчатку, вот только внутри неожиданно обнаружила подкладку из шелка, чего раньше никогда не замечала, потому что была занята только тем, чтобы получше выдубить кожу снаружи и перенести удары этих последних лет. Перчатка служила мне как боксеру, и я не упала, устояла благодаря чуду — когда спасение приходит случайно и тебя вдруг защищает чужая броня.
Родиться на Кубе означало, что ты должна приспособиться к отсутствию мира, в котором живут обычные люди. Я не умею пользоваться кредитной карточкой, мне не повинуются банкоматы. Вывести меня из равновесия, сбить с толку, заставить пасть духом способна простая пересадка в аэропорту чужой страны. Снаружи я чувствую себя в опасности, внутри — как в комфортабельной тюрьме.
Не знаю, в какой момент я позволила, чтобы у меня отобрали все и оставили одну, нагишом, с Дневником в одной руке и помадой — с помощью которой я пытаюсь покрасить губы в пунцовый цвет, пожалуй, слишком яркий для женщины неопределенного возраста — в другой.
Дневник детства
Родина — это детство.
Шарль БодлерЛагуна-дель-Кура, Сьенфуэгос, Куба, 1978 год
Моя мать вышла замуж за иностранца, шведа, он работает на атомной электростанции.
Мы живем в доме на берегу лагуны. Здесь полно всяких странных приспособлений вроде веревок с якорем на конце, с помощью которых из воды вытягивают блестящие кастрюли. Кастрюли держат там для того, чтобы благодаря соли они всегда были чистыми. Фаусто, муж моей матери, — мужчина очень красивый, светловолосый и высокий. Он купается голышом, голым разгуливает по берегу и газету читает тоже голым. Газета эта всегда одна и та же, со шведскими буковками.
Когда соседи приносят нам контрабандную рыбу, Фаусто с большой неохотой одевается. Мама его пугает, говорит, что нас посадят в тюрьму, и тогда он натягивает обтрепанные до неприличия джинсы.
Мы даем местным жителям пищу для разговоров, потому что живем в роскошном районе, где дома смотрят на море. Некоторые, как наш, который государство временно дало Фаусто, выходят к лагуне. Моя мать не хочет, чтобы я привязывалась ни к этому, ни к какому-либо другому дому, — мы здесь временные. Это правда.
Материальные вещи значения не имеют, так что я живу, как в общежитии. А мне это нравится! Каждый день я проплываю отрезок, соединяющий лагуну с морем. Бросаю школьную сумку в патио, снимаю форму, кладу ее в гамак и — плюх! — бросаюсь в воду.
Я как рыба в стремительном потоке — он хочет унести меня с собой, но я сопротивляюсь и после долгих усилий добираюсь до берега. Потом вновь вхожу в воду и неподвижно лежу на поверхности, отдаваясь на волю течения: я обломок лодки, стекляшка, сломанная кукла, пресноводная рыбка, чуть двигающая плавниками в потоке. Но вот попавшая в рот соленая вода подсказывает мне, что нужно держать ухо востро, потому что я уже в бухте.
Суббота, 13 ноября 1978 года
Мой отец появился спустя много месяцев. В этом доме он был впервые. Держался отчужденно, настороженно, но кофе выпить согласился.
Мама показала ему мои тетрадки, оценки — все было в порядке. Но когда он пошел разыскивать меня у лагуны, его ждал неприятный сюрприз. Увидев, как мы на пляже нагишом играем в «кита-убийцу», отец хотел избить Фаусто. Он просто взбесился — не мог с этим смириться. Мы подошли поздороваться, а он набросился на Фаусто с кулаками, целя ему в лицо. Потом отец очутился в воде, но продолжал размахивать кулаками и там. Фаусто смотрел на него недоуменно, не понимая, что происходит. Отец кричал и делал вид, что обороняется, хотя на него никто не нападал. Обычно дело кончается тем, что отец нас избивает. Конечно, не на людях — он всегда за этим следит. И вот теперь это произошло на глазах у шведа. Мне было так стыдно!
Отец уехал, сказав, что не желает больше нас видеть. В доме после него остался запах рома. Мама не знает английский или французский достаточно хорошо, чтобы объяснить иностранцу: «Просто-напросто он нас бьет». Сегодня Фаусто спал в кровати вместе с нами. Мама ведет себя, как девочка. Она плачет. Я чувствую себя старше мамы.
20 декабря 1978 года
Маму мы видим очень мало. На радио ее заставляют вести спортивные передачи и обслуживать телетайпы, а это дело долгое. Говорят, что она лишилась доверия и не может работать с новостями. Ей поручают только комментировать бейсбольные матчи.
Угрожают послать ее в Анголу. Мне страшно остаться одной с Фаусто — я еще никогда не жила без мамы. Не понимаю, как это возможно, что она не может идти встречать президента ГДР только потому, что Фаусто — иностранец. Мама говорит, что это называется расизмом и что расизм бывает не только по отношению к неграм — существует много его разновидностей.
Мне страшно оттого, что мама поедет на войну.
Я хотела бы заболеть какой-нибудь очень плохой, неизлечимой болезнью, только бы ее не посылали. Хоть бы заболеть! Мама говорит, что у этой войны нет оправданий. Но просит меня нигде этого не повторять. Если маму туда пошлют, я точно умру, и умру от тоски.
Она же может умереть от чего угодно, ведь она такая маленькая, почти как я — у нее такой же размер обуви, и она носит мои чулки. Она не выдержит на этой войне! Моя мама боится всего на свете даже больше, чем я. Она начинает дрожать, когда мы с ней в доме одни, и роняет фонарик, когда мы пытаемся найти какое-нибудь объяснение непонятным звукам. Это не страх, говорит она, это называется осторожностью, но я-то хорошо знаю, что это именно страх, только особый, трепетный. Смех с ней, да и только! А в тамошних озерах небось полно всяких тварей… Настоящую войну мама не переживет, она не выдержит!
Объявляю забастовку в Дневнике, потому что мою маму отправили на войну в Анголу. Эту страницу оставляю чистой в ее честь.
Июнь 1979 года
Завтра мама возвращается.
Шесть месяцев мы прожили с Фаусто одни, каждый вечер надеясь услышать по радио ее голос, передающий репортаж из Анголы.
Фаусто — настоящий Гулливер в стране лилипутов. Я хватаюсь за его бороду, и он укачивает меня, пока я не усну.
Мне не важно, что он ходит голышом.
Знаю, что соседи возмущаются, а отец написал на нас донос. Скоро нам придется явиться в суд — мама еще этого не знает. Мы ей скажем завтра, когда она приедет с войны. Все на нас свалилось сразу — и война, и суд.
Фаусто читает по-испански не очень хорошо, так что мне пришлось ему объяснять, что написано в бумаге, которую мы только что получили. Мой отец подал на маму в суд, обвинив ее в безнравственности, пренебрежении своими обязанностями и куче других вещей. Он требует установить надзор и опеку над дочерью, а также подтвердить его родительские права.
«Разделяй и властвуй», — сказал на это Фаусто. На рассвете вспыхивают странные огоньки, я принимаю их за зарницы и перебираюсь в постель к Фаусто, а он объясняет, что это камера со вспышкой и что кто-то следит за нами издалека.
«Я подозрительный швед. Ты должна меня бояться. У-у-у!» — завывает он как призрак, а я забираюсь под покрывало, чтобы спрятаться от глядящего на нас чужого глаза. Фаусто начинает меня щекотать, и я засыпаю от смеха и усталости. Теперь я думаю, что за мной следят. Не знаю, правда это или нет, но в любом случае надо держать ухо востро. За эти месяцы я не сделала ничего плохого. И вела себя даже лучше, чем всегда. Клянусь.