Роберт Крайтон - Камероны
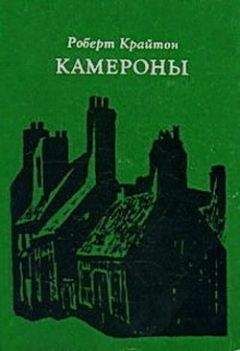
Обзор книги Роберт Крайтон - Камероны
Роберт Крайтон
Камероны
Человек должен есть —
Так или не так?
И дети его есть должны —
Так или не так?
1. Мэгги Драм
1
Она проснулась.
Минуту тому назад она еще крепко спала – и вот глаза ее уже широко раскрыты, и она смотрит в черноту потолка. Она не любила ночь и все-таки заставила себя проснуться в самую глухую пору. Главное – уметь собой управлять. К тому же это приятно.
Она лежала, зарывшись под стеганое одеяло, и внимательно смотрела на потолок – не появится ли отсвет, означающий, что в очаге на другом конце комнаты еще тлеют угольки.
– Кукушка-себялюбка! – громко произнесла она.
Она хотела, чтоб ее услышали. Огонь был мертв, и в комнате стоял мертвящий холод. Видно, мать вопреки установленному в доме порядку поворошила уголья перед тем, как отправиться спать, украла последнее тепло.
– Никогда не думает об утре.
– Что? – переспросил ее отец из другой комнаты. – Чего ты там?
– Ничего. Спи, папаня, еще ночь.
Нет, с этим надо будет кончать, когда она вернется.
Она лежала в постели – маленький теплый комочек в холодном черном ящике – и мысленно повторяла: «Отец, отец». Нелегко к этому привыкнуть, но раз правильно говорить «отец», значит, отцом он и будет, нравится ему это или нет.
«Послушай, – сказал он ей на прошлой неделе, – я простой человек, а не какой-то там чертов барин. Значит, зови меня „папаня“, как заведено у нас, работяг». Но она продолжала гнуть свою линию.
И в доме и снаружи стояла полнейшая тишина. Ни петушиного пения, ни стука деревянных башмаков по булыжнику – все замерло и в поселке и на шахтах внизу, весь мир – ее мир, мир Питманго – свернулся калачиком и тихо спал; ей стало страшно, и она села в постели. Значит, пошел снег. В Питманго наступала тишина, лишь когда поселок накрывало снегом.
«Нечестно это, – думала она, – не по правилам». Снег не имел права идти в апреле – да еще в такой важный для нее день. Она поискала свои деревянные башмаки и не нашла – вот теперь у нее ноги замерзнут на каменном полу. И вдруг услышала «топ-топ» – это топтались в палисаднике шахтерские пони, стараясь укрыться от ветра. По глухому стуку их копыт ясно было, что земля промерзла.
А тут еще и ветер поднялся – она слышала, как он колотит в задние окна, значит, дует с севера, с гор. «Нечестно это, – подумала она, – нечестно». Теперь наверняка весь Западный Файф под снегом, а уж про Кейрнгормс и говорить нечего – все проходы в горах закупорило. Много сегодня погибнет ягнят весеннего окота. И ей теперь в жизни не добраться пешком до Кауденбита, а только там можно сесть в поезд, что идет на север. Придется нанимать мистера Джаппа, чтобы он отвез ее в своем фургоне, и потратить на это шиллинг, а может, и два, если он засволочится. Она почувствовала, как глаза наполняются слезами, что уже совсем никуда не годилось. Зато теперь можно не вставать в такую рань.
Когда она снова проснулась, ветер уже стих и по комнате протянулись полосы лунного света. Если сесть в постели, то в боковое окно видно луну – морозную, плоскую и бледную, но не заштрихованную снегом. Пони обошли дом и теперь топтались у входа – по стуку их копыт, ударявших о булыжник, она поняла, что снега не так уж много, и встала. Стылый каменный пол обжег ей ноги.
«Вот ведь дура, – подумала она, – прохныкала над тем, чего и не было, и только зря в постели провалялась». Ей захотелось на горшок, но она представила себе, как ледяная посудина коснется ее тела, и, содрогнувшись, отступила. В очаге лежала кучка золы; только тронь – разлетится.
– Сука! Только о себе думает, – сказала она.
– Ну что там еще? – спросил отец.
– Да ничего, спи, спи, – сказала она, лишь тут осознав, что произнесла это вслух.
– Но я же слышал. Ругаешься, как девка с шахты. Я этого у себя в доме не потерплю.
– Хорошо, отец.
– Папаня.
Она сгребла золу в сторонку и вздрогнула: три больших куска угля вдруг ожили и ярко вспыхнули, едва только их коснулся холодный воздух. Значит, огонь нетрудно будет разжечь; зачем же она так обзывала мать – ей стало стыдно. Да, одно можно сказать в защиту Питманго: уголь в Питманго чистый и никогда не подведет, если с ним обращаться правильно. И она принялась подкладывать на разгоревшиеся угли кусок за куском.
– Поосторожнее там с углем, мисс! – крикнул ей отец. – Я слышу, ты швыряешь его в очаг, будто вагонетку нагружаешь.
– Уже все, папаня, конец.
Сегодня надо его ублажать. И она так осторожно положила в очаг оставшиеся угли, точно украшала ими торт. Когда от очага пошло тепло, она взяла одежду отца и повесила у огня. Куртка промерзла и, оттаивая, зашипела, пахнуло потом и шахтой. Это она тоже переменит, когда вернется. Есть дома, где рабочую одежду стирают каждый день; у Драмов же ее стирали раз в неделю.
Как была, босиком, она выскочила в прачечную, а когда, пройдя по запорошенному снегом двору, вернулась в дом с зайцем и рыбой, которых там спрятала, каменные плиты пола показались ей даже теплыми. И заяц и рыба за ночь промерзли и, когда она бросила их на стол, глухо стукнули, точно каменные.
– Что там еще?
– Уголь упал. Спи, спи.
– Я же сказал тебе, не трать много угля.
– Ага, папаня.
Надо ублажать отца.
А зайцу-то ведь нужно долго тушиться – зря она это затеяла; теперь придется стряпать в парадном костюме, потому как времени одеться потом не будет, а эдак и пятно на костюм недолго посадить. Она сбросила с себя все, ополоснулась в питьевом котле – не беда: чего люди не знают, то и не переживают, да и вода потом все равно прокипит, – и от тела ее даже пар пошел, она сразу почувствовала себя свежей, чистой. Затем надела короткую льняную сорочку, которую сшила себе на прошлой неделе, и нижнюю юбку, а потом новый твидовый костюм, который заказала через того еврея – мистера Лэнсберга – в Данфермлине.
«И ты отдала еврею гроши? Сама ему в руку вложила и отослала с ним в Данферхмлин?» – сказал тогда отец.
«Да».
«И ты в самом деле думаешь за них что-то получить или еще когда его увидеть?»
«Думаю».
«Тогда ты, значит, еще дурее, чем я считал».
Она могла и не смотреть на себя в этом костюме – она и так знала, что он ей идет… что она в нем просто красавица. Одевшись было, она снова сняла жакетку и в одной сорочке принялась за работу. Для такой молоденькой девчонки у нее была довольно большая, высокая грудь, а сорочка обтягивала ее, обрисовывая фигуру, поэтому она положила рядом с собой жакетку, чтоб накинуть, если отец войдет в комнату: не надо его смущать. Она совсем недавно стала такой, и ни она сама, ни отец еще к этому не привыкли.
Она быстро освежевала зайца – хорошо, что он так промерз: мясо у него стало твердое, и шкура легко сошла. Затем разрезала его на десять кусков, сложила их в горшок вместе с луком-пореем и картошкой и поставила тушиться, а сама стала жарить овсянку, чтобы придать подливе гущину.
Когда с жарким было покончено, она взялась за пикшу – золотистую, с более светлыми, цвета свежего масла, боками. Сначала она ее отварила, чтобы вытравить запах, потом обмазала толстым слоем сметаны и поставила возле огня, так что рыба вскоре задышала – «плоп-плоп» – на своем ложе из сметаны и масла. После этого она достала овсяные галеты, большую овсяную лепешку, которую она как следует разогреет перед тем, как подавать на стол, кусок данлопского сыра, за который ворюги из шахтерского кооператива в Питманго – эту лавку так и зовут «Обираловкой» – содрали с нее целый шиллинг, поставила на огонь чайник и пошла будить отца.
– И даже овсянку поджарила. Ох, и балуешь же ты своего папаню! – Он громко рассмеялся. – Да мне ж никто не поверит у нас на шахте. Чтоб на завтрак – такую похлебку…
– Да кто ж называет жаркое из почтенного тушеного зайца похлебкой? – возмутилась она.
– А это и есть похлебка. Потому я так и называю.
Вот за это она его и любила. Ему не доставляло радости транжирить деньги, но, уж если они были потрачены, он умел все забыть и порадоваться покупке.
Большинство шахтеров у них на улице все просаживали и ничего не оставляли на черный день, а иные, наоборот, забыли, как деньги и тратятся и какую это может доставить радость.
Он смотрел, как она ссыпала в горшок поджаренные золотистые зерна овсянки и прозрачный бульон загустел, обрел плоть. В комнате стоял аромат, напоминавший запах жареного ореха.
– Ну хорошо, Мэгги, что же это все-таки значит?
Но она лишь сняла с полки две глиняные миски – их в Питманго называли «поросячьими корытцами» – и наполнила тушеным мясом. Они ели молча – из уважения к мясу, – и, когда он в третий раз наложил себе миску, она ответила:
– Во-первых, сегодня у меня день рождения.
– Ох… что же ты не сказала? Мы бы купили тебе что-нибудь.
– Ты мне сроду ничего не покупал.
– Так-то оно так, но ведь всяко бывает. Ну-ка, плесни мне еще малость.




