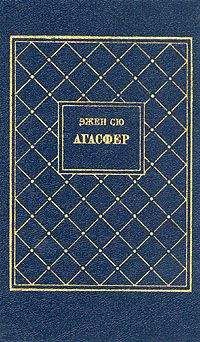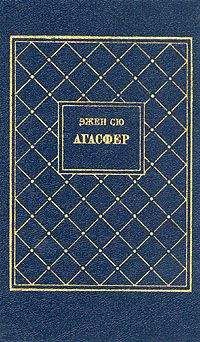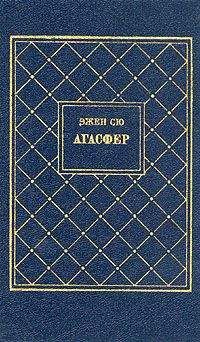Эжен Савицкая - Мертвые хорошо пахнут

Обзор книги Эжен Савицкая - Мертвые хорошо пахнут
Эжен Савицкая
МЕРТВЫЕ ХОРОШО ПАХНУТ
~~~
Жеструа не ведал усталости. Он рассматривал мир, растянувшуюся перед глазами процессию. Во главе шел младой уголовник, нес, шельмоватый, изысканный стяг (грозный орлом в каждой складке). Впритык спешил, игрив по годам, его братец, прижав к животу алый шар. Девочка, та толкала детскую коляску, в пику на них наезжая. Супружница в сапожках на шнурках, с младенцем на руках, сметливым дитятей, что трепыхало, дабы отогнать мух, ручонкой, делая вид, чтоб распустить ее косы, будто ласкает волосы матери; за женою усатый, свирепого вида мужлан то и дело оборачивался с бранью, остервенело грозил норовящей отстать влюбленной парочке, пока воздыхатель изо всех сил тискал шею своей любавы, а девица, отсутствуя взором, с распахнутым ртом, щекоча языком нёбо, шарила по карманам дружка в поисках толики золотой пыли, что осыпалась с пяти любовных цидулек соперницы. Безмолвный дедок с клюкой из каменного дерева, скрученной-перекрученной, почти белой, ненавидел собственных отпрысков, вонючих, заразных и глупых: слабоумного сына, безмозглую невестку, внуков, годных разве что псу под хвост, сопливого зятя, дочку с замшелыми от грязи ногами и разлапистыми ступнями, ни один не любит птах: пся крев, пся кость, сучьи души! Все порченые, кроме бледной крестницы, что видна сквозь гипюр и рюши, без горба, без изъяна. На глаза Жеструа навернулись горькие слезы. Длинная процессия проходила под окнами. И никто не промолвил ни слова. Позади, в обрамлении толстомясого дядюшки и кузена, калики перехожего на костылях, брела гурьба ребят, косолапые увальни, розовоухий гидроцефал, плелись лилипуты, чихая друг под сурдинку за другом, сами не свои подудеть в трубу, потрубить в рог, бухнуть в барабан, ладонями плашмя по утоптанной земле, лица среди теней сплошь в припухлостях и веснушках, детины не по годам и девчушки с рыжими султанами. На руке у провожатого бородавка, волдырь, надут не то желчью, не то добрым семенем. Следом когорта масок, верные, любимые друзья с велосипедами и воздушными змеями и зловреды-враги под зонтиками из разрисованной бумаги, какие попадаются на гуляньях, засиженными мухами, с опаленной бахромой. В хвосте флейтисты, скромные как сверчки, распуская от дурного расположения духа слюни в резервуар своих дудок. И из глаз неутомимого Жеструа хлынули тяжкие, суровые слезы. По бокам процессии бегали, прыгали, пресмыкались белые слуги короля Виктора, безутешные, одутловатые. Приглядывая за собравшейся внутри ограды лагеря толпой, недремлющие, черные очи готовы ко всему, взгромоздились на ходули малиновые солдаты в белых башмаках с черными подошвами и шнурками. В знак великого траура из их штанов торчали взвязанные и присыпанные мукою члены.
А в повозке, склонив на натянутый брезент голову в шлеме из тончайшего дюраля, послушно отбывала к садам, где маячат оцепеневшие камни и томные померанцы, святая королева с прилизанными светло-русыми волосами, с расцарапанным синим виском, с умащенным маслом затылком. В ее правом ухе кажет голову об одном роге светлая улитка. Из другого, ускользнув от потрав и ловушек, высовывает свою сверкающую диадему какая-то козявка. По жемчужине в каждой мочке, довесок по смерти государыни, ибо ее уже нет среди живых, той, что любила Жеструа; спаяны ее челюсти: серебряная нить тесно сшивает губы, огибая каждый зуб, привязанная к языку. Во рту у нее хранится подарок обитателям подземного мира, они, если достанет терпения и невозмутимости, сделают так, чтобы щелкнул замок-автомат секретной конструкции. И губы всех и вся на ее размякших устах. Но катит, катит повозка по каменистой дороге, и неистовые толчки разжимают мало-помалу стиснутые челюсти, разрывают и растягивают плоть, и драгоценная капсула скатывается под ноги зевакам, исчезает в скопище пыли. И сотрясают толчки бедра и грудь. Из-под мышек поднимались нежные испарения. Правая грудь, куда внушительней левой, приподнятая бретелькой из розовой ткани, вздымалась к рыжему, плющенному на наковальне солнцу. Из глаз Жеструа текли горькие слезы. Руки королевы были в перчатках выше локтя, а ноги от лодыжки до середины бедер убраны тонкими голубыми гетрами. Правая рука, покоясь на левой груди, скрывала цвет раны, на ляжках виднелись подозрительные следы, подтеки слез в ложбинке, в уголке глаза. Узкие бедра, тень паха, завитки руна, влажные, приглаженные указательным пальцем брови, полный до краев пупок, который обследовал тот же палец, замызганные ступни, стоптанные пятки, четыре иссиня-лиловые щиколотки. В изножье кровати в комнате без окон ждали расшнурованные сандалии. Жеструа кусал себе подушечки пальцев, и текли его слезы, от глазных яблок к нижней челюсти, по глубоким впадинам у ключиц, и падали на живот, доверху наполняя пупок, под носом сверкали сопли.
Чулки и перчатки, чему еще прикрывать тело владычицы. Открыты были ее сундуки и ларцы. Зимнюю, кунью накидку надела старшая из сестер, семенившая за повозкой, белый воротник почти скрывал ее лицо, а тяжелые, отороченные горностаем полы волочились в пыли по пальмовым листьям. Младшая же облачилась в летнюю, сплошь в темно-синих стежках и кристаллах, по локти погрузив руки в карманы, шагала она, свесив голову, без обуви, с непокрытой головой, обнажая на каждом шагу свои ноги. Старшая кузина выбрала спадавшую вниз просторную пелерину, из-под складок которой высовывались только кисти ее пожелтевших крохотных рук. Разодетой в вечернее платье выступала пережившая внучку бабка; что ни шаг щеголяла раздутыми венами щиколотка серее воскуряемого фимиама. И мать в вязаной феями и служанками кофте, чьи длинные рукава скрывали под собой татуировки, изящную звезду, красочные символы, посвящения Людовику, Станиславу и Федору, а на груди — сердце горячо любимого. На плечах младшей из племянниц — ажурная шаль с бахромою. И крестница в домашнем фартуке в пятнах от клубничного сока прошлого урожая, с расплывшимся ореолом вокруг кармашка для носового платка, в изрешеченном не то любовно, не то неистово батисте. Серый английский костюм падчерице, черный — соседской дщери. Изысканные перья голенастых в тонких волосах любимицы с расширенными зрачками. Прогулочный костюм и крохотное пальто для внебрачной дочери. Бархатный плащ с капюшоном для дочери любимой. Просто прикрывшись боа о трех полотнищах, поспешала немая дочь, под узорчатою вуалью улыбалась глухая. И под присборенной блузкой, надетой любимым дитятей, на груди не разглядеть было ни тени, не было ни грудей, ни оттенка синюшного, только два затвердевших соска. Черная пелерина скрывала плечи юной тетушки. Кормилица выбрала блузку с кружевными отворотами и, полуобнаженная, неторопливо шагала позади процессии вслед за господами. Стайка светло-, рыже- и черноволосых девчушек облачилась в штанишки: одна в огненно-красные, которые поддерживала рукой, одергивая другой задравшееся платье; вторая в жемчужно-белые, они доходили ей до самых подмышек; третья в кремовые, свисающие меж худосочных ног; четвертая в розовые, те хорошо пахли; еще у одной они блестели; у следующей просвечивали; последняя, та, что стегала остальных пуком крапивы, в штанишках с тысячью кружев и тысячью лент, держала в руке маленький скромный платочек из розовой ткани. Через мгновение все они исчезли, ловко нырнув под зеленый полог шатра. Баядерка, дикая дочь обожаемого брата. Ее сестра-двойняшка заявилась нагою, настежь плевкам и стрелам, которые из-под полы посылали в нее малолетние мужички вперемежку с цветами побитой апрельскими заморозками яблони. Следом, развязно водрузив на головы всевозможные шляпы и прочие головные уборы, гуртом подоспели чужие семье шестнадцатилетние парни: рыжий в черной шляпе с широким и мягким полем, блондин в бескозырке, заломленной лихо на левое ухо, чернявый с голубыми глазами в женской, без полей, шляпке, сумасбродный бычок в кепи о синем козырьке, голенастый как цапля в соломенной шляпе китайского кули, задрыга в шапочке фигуристки, ибо не раз каталась она на коньках по пучине между кедрами и тополями; ремни летного шлема бились на висках самого бледнолицего; каменного ангела скрывало сомбреро; обычный носовой платок стягивал локоны девственника, тюрбан из металла каскою крыл его братца. И тщательно застегнутая тиара (ключ к ней проглотил крокодил) на самом достойном. Язвящие уколы ранили глаза Жеструа, в то время как мозг его изливался на мраморный подоконник. Совсем юная отроковица в одиночку выставляла напоказ прочие украшения: черный камень, заточенный в крохотный фиал газ, тончайшие картинки, втиснутые в жемчужины, бледную оборку вокруг расцвеченных черными родинками плеч, бубенчики, треугольники, запыленные блестки, перстни на пальцах ног, кольца в нос и нить из кожи, пропущенную, перекрещенную и сплетенную. И в процессии, ежесекундно рискуя, что его затопчут, смеющийся, все более и более счастливый, с раздавшимся анусом, пресмыкался уродцем всеобщий внук, ничейный сын, слизывая капля за каплей все крепчавший сок, что стекал сквозь обшивку повозки. Уже начали разбирать дворец и шатры, и сундуки громоздились кучею, перекрывали боковые аллеи.