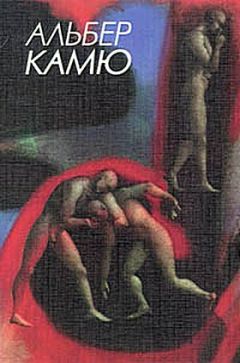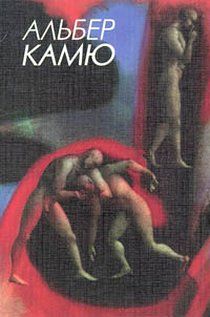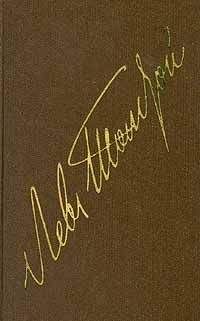Сол Беллоу - Герцог
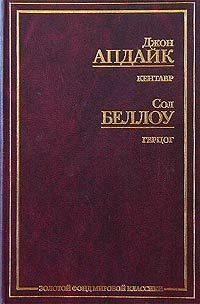
Обзор книги Сол Беллоу - Герцог
Сол Беллоу
Герцог
Пэту Ковичи,
великому редактору и, что важнее, великодушному другу, с любовью посвящается эта книга.
* * *
Если я схожу с ума, то быть по сему, думал Мозес Герцог. Кое-кто считал, что он помешался, и он сам одно время не был уверен, что наверху у него все в порядке. Но сейчас, при всех своих странностях, он чувствовал в себе уверенность, бодрость, проницательность и силу. Им овладело наваждение, и он писал письма решительно всем на свете. Эти письма его так будоражили, что с конца июня он перебирался с места на место, таская за собой саквояж с бумагами. Он потащил его из Нью-Йорка на Мартас Виньярд, откуда моментально вернулся, через два дня улетел в Чикаго, а из Чикаго подался в один поселок на западе Массачусетса. Укрывшись в сельской глуши, он безостановочно, неистово писал в газеты, общественным деятелям, друзьям и близким и, наконец, покойникам, начав со своих, никому неведомых, и кончив известными всем.
Для Беркшир это была вершина лета. В большом старом доме Герцог был один. Обычно привередливый в еде, сейчас он ел хлеб из бумажного пакета, бобы из консервной банки и чеддер. Иногда щипал малину в заросшем саду, с рассеянной осторожностью поднимая колючие ветки. Что касается сна, то спал он на голом матрасе — на своем охладелом супружеском ложе — либо в гамаке, накрывшись пальто. Во дворе его окружали высокая остистая трава, белая акация и кленовая поросль. Когда он ночью открывал глаза, звезды казались подступившими призраками. И всего-то — светящиеся, газообразные тела, минералы, теплота, атомы, но в пять утра многое скажется человеку в гамаке, завернувшемуся в пальто.
Когда приходила очередная мысль, он шел записать ее в кухню, там у него был штаб. С кирпичных стен облупливалась побелка, случалось, Герцог рукавом смахивал со стола мышиный помет, спокойно недоумевая, откуда у полевых мышей такая страсть к воску и парафину. Они выгладывали дыры в парафиновой заливке консервов, до фитиля прогрызли свечи для торта. Крыса въелась в хлебный брикет, оставив в мякише свою матрицу. Герцог съел другую половину булки, намазав ее вареньем. С крысами он тоже умел делиться.
Постоянно часть его сознания была открыта внешнему миру. Утром он слышал ворон. Их пронзительный грай был восхитителен. В сумерках слышал дроздов. Ночью подавала голос сипуха. Когда он с письмом в голове возбужденно шел по саду, он отмечал, что розовые побеги обвили водосточную трубу; он отмечал шелковицу — ее вовсю обклевывали пернатые. Дни стояли жаркие, вечера — распаленные и пыльные. Он остро вглядывался во все, но ощущал себя наполовину слепым.
Его друг (бывший) Валентайн и жена (бывшая) Маделин пустили слух, что его рассудок расстроился. А так ли это?
Обходя вокруг пустого дома, он увидел в тусклом окне, затянутом паутиной, призрак своего лица. Непостижимо спокойным показался он себе. С середины лба по прямизне носа на полные сомкнутые губы пролегла сверкающая черта.
Поздней весной Герцогом завладела потребность объяснить, объясниться, оправдать, представить в истинном свете, прояснить, загладить вину. Он тогда читал лекции в вечерней взрослой школе в Нью-Йорке. В апреле он еще удерживал мысль, но к концу мая его стало заносить. Слушатели поняли, что им не суждено постичь истоки романтизма, зато они навидаются и наслушаются странных вещей. Все меньше оставалось от академической проформы. Профессор Герцог вел себя с бесконтрольной откровенностью человека, глубоко погруженного в свои мысли. К концу семестра в его лекциях стали возникать долгие паузы. Случалось, он умолкал, обронив «прошу прощенья» и шаря за пазухой авторучку. Под скрип стола он писал на клочках бумаги, испытывая небывалый зуд в руках; он обо всем забывал, его глаза смутно блуждали. На бледном лице все выражалось — решительно все. Он урезонивал, убеждал, страдал, ему представлялась замечательная дилемма: он открыт наружу — он замкнут в себе; и все это безмолвно выражали его глаза, рот — томление, непреклонность, жгучий гнев. Все это можно было видеть. В мертвой тишине класс ждал три минуты, пять минут.
Поначалу в его записях не было системы. Это были фрагменты — случайные слова, выкрики, переиначенные пословицы и цитаты, либо, пользуясь идишем его давно умершей матери, трепвертер (Треп, болтовня) — остроумие задним числом, когда ты уже сходишь по лестнице.
Он, например, записывал: Смерть — умереть — снова жить — снова умереть — жить.
Нет человека — нет смерти.
Еще: Поставили душу на колени? Нет худа без добра. Скреби пол.
И еще: Отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих.
Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему (Книга Притчей Соломоновых, 26, 5, 4).
Выбери одно.
Он сделал такую запись: Благодаря Уолтеру Уинчеллу (популярный с предвоенных лет радиожурналист сенсационного толка) я вижу, как И. С. Бах надевает черные перчатки, чтобы сочинить заупокойную мессу.
Герцог едва ли сам сознавал, как относиться к своей писанине. Он поддался возбуждению, заставлявшему его хвататься за ручку, и временами подозревал здесь симптом распада. Это его не пугало. Лежа на кухонном диване в своей меблирашке на 17-й улице, он иногда воображал себя неким заводом, производящим личную историю, и видел себя от рождения до смерти. Он поверял листку бумаги:
Не могу найти оправдания.
Задумываясь над прожитой жизнью, он сознавал, что все в ней напортил — решительно все. Свою жизнь он, как говорится, погубил. Но поскольку потерял он не бог весть что, печалиться особенно не из чего. Перебирая на вонючем диване столетия — девятнадцатое, шестнадцатое, восемнадцатое, — он в последнем выудил афоризм, который ему нравился: «Печаль, сэр, — это вид безделья».
Лежа на животе, он продолжал подводить итоги. Умный он человек или идиот? Пожалуй, на сегодняшний день он себя не посчитает умным. Может, и были у него в свое время задатки умного человека, но он предпочел витать в облаках, и прохвосты обобрали его дочиста. Что еще? Начал лысеть. Рекламу «Дерматологи Томаса» он читал с преувеличенным скептицизмом человека, истово, отчаянно желающего верить. Помогут тебе дерматологи, как же. Так вот… прежде он был красивый мужчина. Сейчас это не лицо, а хроника мордобоя. Впрочем, он сам напросился и еще добавил силы своим мучителям. Отсюда он задумался о своем характере. Какой он у него?
Если воспользоваться современной терминологией, то он — нарциссист, мазохист, анахронист. Его клиническая картина: депрессия, хотя не самая тяжелая, не маниакально-депрессивный случай. Бывает хуже. Если допустить, как это делают сейчас, что человек больное животное, то не получится ли, что он драматически больной человек, беспроглядно слепой, феноменально деградировавший? Нет, не получится. Как насчет сообразительности? Его интеллект был бы куда действеннее, имей он сам агрессивный, параноический характер, стремление властвовать. Он ревнив, но дух соперничества не захватывает его целиком, как это бывает у параноиков. Теперь: как с ученостью? И тут он был вынужден признать, что профессор он тоже — так себе. Нет, он серьезный человек, в нем достаточно некой недооформившейся основательности, однако систематичность всегда будет ему недоступна. Он прекрасно начал докторской диссертацией по философии: «Место Природы в английской и французской политической философии 17–18 веков». Закрепил репутацию несколькими статьями и книгой «Романтизм и христианство». Но другие его честолюбивые замыслы один за другим расстроились. Благодаря прежним успехам он без труда находил работу, получал научные стипендии. Наррагансеттская корпорация годами выплачивала ему пятнадцать тысяч долларов на дальнейшие занятия романтизмом. Плоды этих занятий хранились в чулане, в старом саквояже, — восемьсот страниц сбивчивых препирательств, так и не подступивших к существу дела. Ему было больно думать об этом.
На полу, под рукой, лежали листки бумаги, и время от времени он, свесившись, делал записи.
Сейчас он писал: Моя жизнь не затянувшаяся болезнь: моя жизнь — затянувшееся выздоровление. Либерально-буржуазная переоценка, иллюзия улучшения, яд надежды.
Припомнился Митридат, чья система учила выживать от яда. Тот провел своих убийц, опрометчиво травивших его малыми дозами, и хотя весь промариновался, все же не погиб.
Tutto fa brodo (Все сгодится).
Возобновляя копание в себе, он признал, что был плохим мужем — причем дважды. Он отравлял жизнь первой жене, Дейзи. Вторая, Маделин, чуть не доконала его самого. Сыну и дочери он был любящим, но плохим отцом. Собственным родителям — неблагодарным сыном. Отчизне— безучастным гражданином. Братьев и сестру он тоже любил, но — издалека. С друзьями индивидуалист. В любви ленив. В радости скучен. Перед силой уступчив. С собственной душой уклончив.