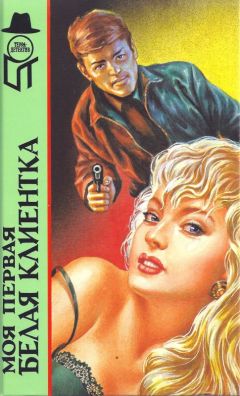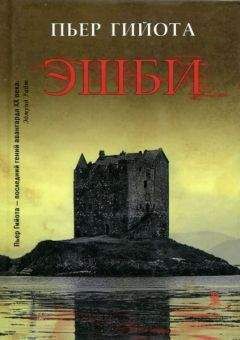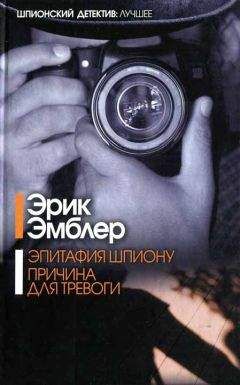Пьер Ассулин - Клиентка
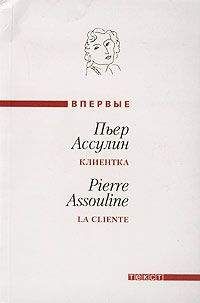
Обзор книги Пьер Ассулин - Клиентка
Пьер Ассулин
Клиентка
Мерил и Кейт, моим первым, самым дорогим читательницам
We shall not cease from exploration
And the end of all our exploring
Will be to arrive where we started
And know the place for the first time.
T.S.Eliot. «Little Gidding», 1942Мы никогда не перестанем искать
И в итоге всех наших поисков
Вернемся к исходной точке
И увидим ее словно впервые.
Т.С. Элиот. «Маленький проказник», 19421
Это бесконечная история. Она преследует нас, она не дает нам покоя, от нее невозможно отделаться. На протяжении более полувека этот ужас у нас в крови. В то время как одни гибнут из-за своих гиблых привычек, другие по-прежнему задыхаются в атмосфере прошлого, не желающего становиться прошлым. В конце концов, у каждого — своя причина для бессонницы. Наиболее достойны сожаления люди, тоскующие о том, чего им даже не довелось пережить. Этот странный призрак стал черной дырой нашей совести. Кто сумеет изгнать его оттуда? Кто…
Я все еще не пришел в себя, когда запинающийся голос репродуктора прервал бег моего пера по бумаге. Библиотека закрывалась. Как в дурмане я поднял голову.
Читатели, сидевшие вокруг, выглядели немногим бодрее меня. В каких бурных средневековых водах они продолжали барахтаться? В их глазах читалась летопись нескончаемых зверств. Очевидно, сегодня они стали свидетелями многих сражений. Во всяком случае, повидали больше моего. Чтобы выяснить, над чем бьется ученый, стоит приглядеться к его лицу, а не подглядывать из-за плеча. Я с минуту понаблюдал за некоторыми из читателей, и это вдохновило меня на заключительный призыв: уймитесь, глаза, вы уже краснеете!
Ничего особенного, то была лишь минута забытья, крупица безумия, облегчающая бремя одиночества дотошного биографа. Выводя эти слова в тетради, я упивался возможностью писать невесть что, просто так, ради забавы, без всякой нужды, даже не помышляя о результате. Благодаря этому непроизвольному жесту в мой кропотливый труд просочилась капелька фантазии.
Последние ряды упрямцев нехотя отрывались от своих картуляриев и ин-фолио, уступая вежливому, но настойчивому натиску смотрителей, бросавших на читателей косые взгляды. И те, и другие так сокрушались, словно бросали ребенка на произвол судьбы.
* * *С началом летних отпусков Париж обезлюдел. Я чувствовал, что оказался в пустоте. Я уже испытал это на собственном опыте и понимал, что мне предстоит прожить несколько ближайших недель в этаком состоянии невесомости на фоне никому не нужного города. В подобные моменты я упрекал себя за то, что я, к сожалению, склонен расценивать современное общество как чудовищный заговор против внутренней жизни человека.
На улице стояла едва ли не дивная погода. Скудная растительность, уцелевшая в столице, сводила неумолимый бег времени к чисто субъективной точке зрения. Меня не покидало странное чувство, что я надежно защищен от пошлости нашего времени.
В автобусе ни я, ни другие мои собратья-читатели уже не реагировали на тщеславные потуги «homo telefonicus» [1]. Я заметил в глубине салона несколько сутулых, покачивающихся, осоловевших от чтения фигур, от которых веяло идиотским блаженством. Подобно всем, кто остался в городе в эту трудовую субботу, они по-прежнему пребывали где-то далеко, в собственном мире, и были не в состоянии уклониться от беседы с прошлым.
В тот день как никогда трудно было понять, почему столько наших современников предвещают весьма печальный конец нынешней эпохи. Настало лето, и все опять казалось возможным. Париж вновь становился милым, как и его обитатели; этого было достаточно, чтобы почувствовать, как на тебя нисходит благодать.
* * *Я никогда бы не подумал, что жизнь Дезире Симона доведет меня до такого состояния. Его многочисленные сочинения не переставали будоражить мой ум. Я устремился на штурм этого литературного храма с известным легкомыслием. Полтора года спустя он все еще оставался непокоренным. Но, добравшись до военных лет, я ощутил, что нечто другое, важное, ускользает от меня. Одна из тех незначительных, почти незаметных мелочей, способных при этом круто изменить нашу жизнь.
Я полагал, что, рассматривая своего подопытного кролика со всех сторон, сумею разобраться в его литературных приемах. Выявить его творческий почерк. И в конце концов, заглянуть в его душу, ведь, как известно, всякий писатель черпает из своей души. Возможно, думал я, мне даже удастся к ней прикоснуться.
Я тешил себя подобными иллюзиями, даже не подозревая, что беспечно вторгаюсь в сумрачную область души, где безраздельно царит абсолютное Зло.
* * *Дезире Симон вечно лгал; будучи романистом, он прибегал ко лжи, выдающей себя за правду, не как к благородному искусству, а как к единственному спасительному средству, позволяющему сохранять относительное равновесие. Это стало для него вопросом жизни или смерти. Он не пропускал свои впечатления через фильтр знания либо размышления, а сразу брал быка за рога. С первых страниц своих романов он ухитрялся нащупать болевую точку. В этом отношении изучение жизни писателя и анализ его текстов представляли собой одно из самых увлекательных на свете занятий. Раз уж меня допустили в эту лабораторию, я с неподдельным интересом наблюдал за фальшивомонетчиком, взявшимся за дело. Я был готов бесконечно превозносить Дезире Симона за то, что он давал мне, безвестному биографу, возможность держаться в его тени, даже если мне было суждено погубить свою душу на этом поприще.
Я понимал, что военный период его жизни того и гляди окажется для меня крепким орешком, но не догадывался, каким именно. Я опасался обнаружить скелет в шкафу. Однако никогда бы не подумал, что этот скелет может быть спрятан не в шкафу романиста, а где-то еще.
Не особенно расположенный сотрудничать с кем бы то ни было и в то же время неспособный дать решительный отпор, Дезире Симон был верен прежде всего самому себе. Он шел в ногу со временем, с подозрительной ловкостью лавируя на самых крутых поворотах. Все видели, что он прекрасно ориентируется в любой среде и уживается со всеми, не общаясь ни с кем. Его умение всегда выходить сухим из воды невольно вызывало восхищение. Так, при страшном дефиците бумаги книги Дезире Симона печатались большим тиражом. Даже киношники преклонялись перед ним, так как под немецким каблуком по его книгам чаще всего ставились фильмы. Его репутация оппортуниста уже не подлежала сомнению. Дело дошло до того, что вскоре после войны писателю приходилось постоянно оправдываться, хотя ему и не предъявили официального обвинения.
Когда я перечитывал мемуары романиста, меня особенно поразило одно место. Он упоминал там об опасности, грозившей ему и его близким в 1941 году. В полицию по делам евреев пришел донос, и некий инспектор явился к Дезире Симону домой. Несмотря на положение подозреваемого — маститого писателя, — чиновник, нисколько не смущенный своим демаршем, держался самоуверенно и, пожалуй, высокомерно.
«Симон, к нам поступил сигнал, мы завели на вас дело, вы — еврей, не так ли?» Романист стал громко возмущаться: дескать, если это шутка, то она дурацкая; насколько ему известно, в их роду испокон веков… Однако сыщик ничему не верил и продолжал настаивать на своем, с презрением выплескивая на подозреваемого обличительные слова: «А это мы еще посмотрим; между тем и фамилия-то у вас еврейская: Симон, Шимон, Шалом, один черт, скоро проверим, мы всегда начеку, так и знайте».
Дезире Симон был потрясен: от него требовали сведений не о том, кто он, а кем он не является. Чем дольше он искал выход, тем безнадежнее терялся в лабиринте. Бред, да и только. Он должен был доказать, что ни он, ни его родители, ни дед с бабкой не были иудеями. Писателю дали пятнадцать дней, чтобы собрать необходимые документы. Две недели от силы, чтобы обшарить мэрии и северные приходы в поисках актов гражданского состояния и свидетельств о крещении. Триста шестьдесят часов мучительного ожидания.
Дезире Симон относился к редкой категории людей, рожденных под знаком неуемности. Его перо было способно различать оттенки вплоть до мельчайших деталей. Можно было подумать, что талант писателя нашел прибежище в искусстве миниатюры. Я так часто уличал своего героя в перегибах, что и на сей раз меня не покидало чувство, будто он преувеличивает. До тех пор пока моя убежденность не пошатнулась…
По мере того как я читал об этом в романах и рассказах писателя, а также в его частной переписке, мои опасения возрастали. Я блуждал в густом тумане, будучи не в состоянии отличить вымысел от правды, разрываясь между очевидной потребностью в достоверности и тайным влечением к истине. В конце концов, Дезире Симон вполне мог происходить из еврейской семьи. Не исключено даже, что ему действительно грозила смерть во время оккупации. Успех писателя вызывал у многих такую зависть, злобу и ненависть, что он рисковал стать мишенью доносчиков.