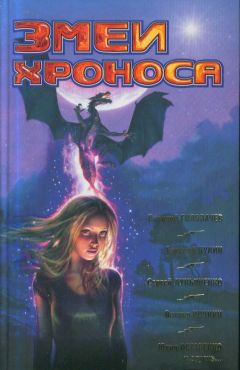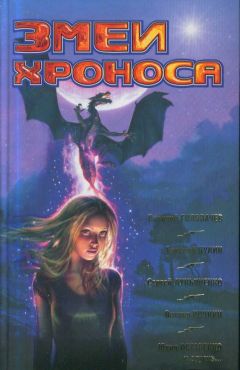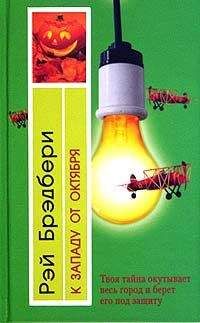Леонид Бородин - Расставание

Обзор книги Леонид Бородин - Расставание
Леонид Бородин
РАССТАВАНИЕ
Отец Василий! Отец Василий! Божественный ты человек! Зачем пьешь со мной? И пьянеешь. И руками размахиваешь…
Я тебе нравлюсь? И — зря. Мне ли себя не знать. Да приглядись же! Я говорун, краснобай, на моей физиономии чего только ни прочтешь.
Зря ты пьешь со мной, отец Василий. Чем-то ты для меня уже не тот, что был неделю назад, там, в сельском храме. Там был ты велик, и свят, и недосягаем в своем спокойствии, и голос твой был глухо торжествен, а я рядом с тобой чувствовал себя плебеем, ничтожеством. Это ощущение пришло ко мне извне и не было плодом интеллигентской сопливости, оно пришло и потрясло меня, всю жизнь самолюбивого, всю жизнь уязвимого всякой мелочью… И вдруг я — червь, и это не больно, а радостно и, провалиться мне за этим столом, перспективно! Ведь что значит — «всю жизнь»? Это, в сущности, одно и то же — борьба за свое место, сначала за одно, потом за другое, получше, потом за третье, а дальше уже бессмыслица, повтор, и не спираль, как кажется поначалу, а круг на плоскости без подъема.
А тут что случилось? Это когда я к тебе на службу попал… Будто выбросили меня в детство, и можно все начать сначала, от малого к большому, снова расти и радоваться росту… Это пережито и вспоминается как подарок. Твой подарок.
В детстве, помню, таинственный дед Мороз пришел, вручил подарок, слова произнес радостные, а потом снял бороду и усы и высморкался. На ту лошадь, что он подарил, я, кажется, и не сел ни разу, так и простояла в углу года два, потом куда-то девалась…
Зря ты пьешь со мной, отец Василий. И о политике говоришь банально, как наши службисты в курилках. Что тебе политика, если приставлен ты к вечному? Да если б я такую веру имел, не смешна ли была бы мне тогда суета людская? Ведь должны тебе люди казаться ползающими по земле, мордами в землю; солнце им в затылок, а они свои тени выщупывают и объективностью именуют! Как же так, отец Василий? Ведь если вера твоя истинна, тогда жизнь без веры — это же слепота какая, юмор уродов, гордящихся уродством. Так ты это должен понимать!
Нет, если б я верил, как ты, я бы выл от досады за людскую глупость. Я б им морды их самодовольные к небу повыворачивал, я бы возненавидел людей за ничтожество их страстей, за никчемность их мыслей, за безделицу их дел! А ты — спокоен. Ты пьешь со мной водку, и я тебе нравлюсь, я, дерьмо из дерьма. Да я за жизнь свою ни одного доброго дела не сделал, какое бы мне совсем без выгоды было. Не понимаю тебя, отец Василий! Там, в храме, кажется, понимал. Там ты был больше меня, а теперь, за столом, все уменьшаешься и уменьшаешься, чего доброго — проскочишь мой червячий уровень, и тогда как я буду смотреть тебе в глаза?
А самое главное: почему я тебе нравлюсь — настолько, что дочь свою единственную отдаешь мне и будто не замечаешь моей помятости, потасканности… Я бы к своей дочери такого, как я, близко не подпустил. Почему ты — отдаешь? Спросить?
— А почему вы дочь свою так легко отдаете мне, отец Василий? Ведь не подхожу я ей ни по каким статьям?
Нагло спросил. Хамски. Отец Василий прерывается на полуслове — что-то про Африку молол. Смотрит на меня и хоть бы прищурился умно или взглядом этаким пронзил, чтоб мне стыдно стало за пьяное хамство. Нет, только моргает.
— Я и не отдаю тебе. Я дарю тебе ее. Она твое будущее счастье, вот я тебе его и дарю. — Улыбается, шевеля бородой. — Так же мог бы и солнце тебе подарить или море наше священное с берегами.
— Неужто лучше меня не встречали?
— Других встречал, — уклоняется он, — других, а лучше, хуже — Бог ведает.
— Дарите, значит. А в приданое что даете?
— Чего хочешь-то? — опять улыбается.
— Веру бы мне… — отвечаю не без ехидства. Качает головой.
— Этого — подарить не могу. Не дарится. Чем-то меня оскорбляет его доверие.
— Дочь твоя верующая, а я кто?
— Бога чувствуешь, но не понимаешь. Душа есть — значит, поймешь.
Меня тянет на ссору, хочется выбить его из этого добродушия.
— А знаешь ли, сколько грехов на моей совести?
Уже я на «ты» перешел. Понесся, как по наклонной. А он — так же улыбается и бородой шевелит.
— Да чего там грехи твои, страсти больше. Нет у тебя никаких таких грехов, чтобы пугаться. Не пугай потому.
Я воспринимаю это как обиду. Что ж я — впустую прожил свои тридцать лет, что и грехов за душой не имею? Ведь только грехами и отличаемся друг от друга, иерархию ведем по степени грехопадения и мерзости. А ведь грехи — это тоже что-то, за ними жизнь, острота, в них изюминка атеиста! И если он мне в грехах отказывает, за кого же он меня принимает, за тварь мычащую? Ну, я ему сейчас врежу, он у меня заморгает! Но что кинуть ему в бороду, какой грех, чтоб заикаться начал? Господи, а ведь он прав! Нечего кинуть. Всё — мелочишки какие-то, ни одного звонкого греха за душой! Вот как раздел меня, как развенчал поп Василий, тесть мой будущий. Ничего за душой, ни хорошего, ни плохого. Для чего тогда прожил я свои тридцать лет? Но жил ведь, какие-то страсти были, нервы истрепаны, а на что? Ничего не вспомнить из своей жизни, как будто не было ее вовсе, где-то я отсиделся в тени да прохладе. Господи, как жалко свою жизнь!
— В город часто езжу, — опять он какую-то ахинею замолол, — дорога длинная да прескучная, все на ногах, а уж толкотня да брань… А ездить каждую неделю надо, питаться-то чем?.. И вот забаву себе придумал младенческую. Как ни тесно в автобусе, как ни кидает на поворотах да ухабах, а стараюсь проехать, чтобы никого не толкнуть. И что оказывается? Заметь — меня тоже не толкают. Иногда два часа, и никто не толкнет. Закон, оказывается, такой: свое плечо упредил в толчке — чужое тоже упредил. Локоть прибрал к ребрам — чужой локоть мимо скользнул. А?
Я молчу. Эту философию я на дух не принимаю.
— Вот к чему байка, — улыбается он, — хочешь грехами похвастаться? А зачем, если живешь бережливо, пихаться не стремишься, и тебя пихают не шибко, ведь это уже — добро. А что до Анастасьи, так она тоже понимает, чего хочет. Как же я могу против ее хотения идти, когда знаю, настоящая она у меня…
Ага! Кое-что соображаю, наконец. Значит, и она, и папаша ее во мне оттого души не чают, что я размазня безгрешная, удобно им со мной, безопасно…
— Анастасья! — кричу громко. Никогда раньше ее так не называл. Она появляется на пороге, и меня захлестывает тоска. Что в ее лице парализует меня каждый раз? Нездешняя она какая-то. Может быть, у меня и не любовь к ней вовсе, а действует на меня эта нездешность?
— Анастасья, — говорю с хрипотцой, — за что любишь меня?
— За то, что ты меня любишь, — отвечает. И эта все про меня знает лучше меня самого.
— А если бы я тебя не любил? Тогда как было бы?
— Никак.
— А просто влюбиться — мы на это не способны?
— Не знаю, не приходилось.
Стоит у двери, чуть оперлась, руки сцепила замочком. Лицо спокойно, вроде бы никакого выражения, но — счастлива, я это чувствую. И отец Василий тоже это чувствует и смотрит на меня влюбленными глазами.
Нет, мне все это не нравится. Меня обезличивают.
— Ты, поди, думаешь, — говорю ей многозначительно, — что я тебя никогда не обижу?
— Обидишь.
— Откуда знаешь? А может, нет? Она подходит ко мне, кладет руки на плечи сзади, я чувствую ее дыхание и губы где-то совсем рядом. У отца Василия глаза на мокром месте. Блаженное семейство! И это я их обоих осчастливил своим появлением в этих местах? Нет, я себя знаю. Я никого не могу осчастливить. И ничего не имею дать. При мне только моя вечная суета и трепыхание. Я носитель путаницы и непостоянства. Разрушить могу многое, а что создать?
А они счастливы, и это обман, а мне никак не убедить их в этом, ни старого, ни молодую, такую странную и мне позарез необходимую…
Женщины или ласкают, или ласкаются. Она — ни то, ни другое. Ее руки на моих плечах, и я не могу понять, что они дают мне, ее руки. Но дают, это точно. И, уже познав это новое, что может дать женщина, мне иначе не прожить. Я хочу схватить ее руки и держать, чтобы они, чего доброго, не исчезли… Но что в них? Спокойствие? Нет, не только.
У меня уже все было с ней. Но откуда уверенность, что главное впереди, что я еще не открыл в ней чего-то, что должен непременно открыть и сделать своим? Не загадка она для меня, совсем не это. В ней для меня что-то постоянное, всегда необходимое, всегда желаемое. Это волнует и пугает. Я побаиваюсь ее, поповскую дочку, и страх мой — бальзам душе…
У нее такие спокойные глаза, синева их не броская, в них ни озорства, ни лукавства… Какой-то философ говорил, что посредством глаз душа не только видит, но и сама видима в них… Я не знаю, что такое душа, и никто не знает, но что-то же я вижу в ее глазах, и увиденное вызывает во мне ответные чувства, радостные и волнующие, и если именно в этом душа, то мне повезло. Я хочу жениться на этой женщине. Связать с ней свою жизнь. Добровольно. В это трудно поверить, там более, что не о своей жизни думаю, а ее жизнь хочу накрепко привязать к себе. Я не уступаю традиции брака, я использую традицию в своих корыстных интересах, я хочу иметь эту женщину у себя за плечом на всю жизнь!