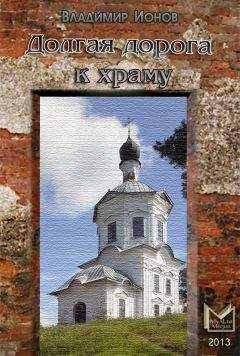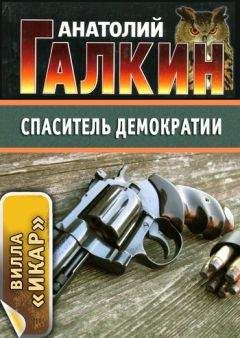Михаил Шишкин - Урок Каллиграфии

Обзор книги Михаил Шишкин - Урок Каллиграфии
Михаил Шишкин
Урок каллиграфии
Заглавная буква, Софья Павловна, есть начало всех начал, так что с нее и начнем. Если хотите, это все равно что первое дыханье, крик новорожденного. Еще только что ничего не было, абсолютно ничего, пустота, и еще сто, тысячу лет могло бы ничего не быть, но вот перо, подчиняясь недоступной ему высшей воле, вдруг выводит заглавную букву и остановиться уже не может. Являясь одновременно первым движением пера к точке, это есть знак и надежды и бессмыслицы сущего. В первой букве, как в эмбрионе, затаена вся последующая жизнь до самого конца — и дух, и ритм, и напор, и образ.
Не утруждайте себя так, Евгений Александрович. Я — курица, а вот моя лапка. Лучше расскажите что- нибудь забавное. У вас ведь на службе каждый день что-то интересное, всякие преступления, убийцы, проститутки, насильники.
Да какие они, господи, преступники. Обыкновенные люди. Кто в винном дурмане, кто в беспамятстве натворили невесть что, а теперь сами себе ужасаются, мол, знать не знаем, ведать не ведаем, и вообще, как вы могли подумать, что я, такой хороший и добрый, мог такое совершить! И вот пишут, пишут куда только можно прошения, ходатайства, молят о снисхождении, а перо держать толком никто не умеет. Позвольте я вам покажу. Левую сторону среднего пальца нужно близ ногтя приставить к правой стороне пера. Вот так. Большой палец, тоже близ ногтя, прикладывается к левой стороне, а указательный сверху не нажимает, но лишь касается, как бы поглаживает перу спинку. Опирается же перо об основание третьего сустава указательного пальца. Эти три пальца и называются писательными. Ни мизинец, ни безымянный не должны дотрагиваться до бумаги. Между рукой и бумагой всегда должно быть пространство, воздух. Если рука не свободна, лежит на бумаге или упирается хоть кончиком мизинца — не может быть свободы в движении кисти. Перо должно касаться бумаги слегка и непринужденно, без малейшего напряжения, как бы играя. А мизинец и безымянный, уверяю вас, есть лишь животные атавизмы, и без них можно писать и креститься.
Вот видите, и у меня ничего не получается. А я, знаете, решила тут как-то на днях утопиться. Да-да, не смейтесь. Нацарапала короткую записку и прилепила на зеркало. Но сначала почему-то решила сходить в баню, не знаю почему. Отчего-то запомнилась одна здоровая рыжая баба, она мыла голову напротив меня. Вся усыпана веснушками — и грудь, и живот, и спина, и ноги. Волосы густые, длинные и впитывали в себя столько воды, что когда эта рыжая распрямлялась, в шайке было почти пусто, а на дно обрушивался целый водопад. А когда я наконец пришла на мост, внизу плыла какая-то баржа. Мужики оттуда что-то кричали и хохотали, мол, давай, прыгай. Я жду, когда она пройдет, а следом еще одна баржа и еще. С каждой что-то кричали, смеялись, и конца этим баржам не было видно. Мне тоже стало вдруг смешно, и я пошла домой, там еще, слава богу, никого не было. Сорвала записку, схватила буханку хлеба и почти всю сжевала. Впрочем, все это не имеет никакого значения, продолжайте. На чем мы остановились?
Что ж, давайте перейдем к черте. Но прежде всего выпрямитесь, освободитесь, невозможно писать сгорбясь или навытяжку. Так вот, в основе всего лежит линия, штрих, черта. Возьмите в пространстве две любых точки, два любых предмета — и между ними можно провести связывающую их линию.
Между всеми вещами на свете существуют эти невидимые штрихи, все ими взаимосвязано и нерасторжимо. И расстояния здесь не играют никакой роли — линии эти растягиваются, как резиночки, только еще сильнее связывая предметы. Видите, тянется линия между чернильницей и вот этим тузом, слетевшим на паркет, между педалью фортепьяно и тенью от веток на подоконнике, между мной и вами. Это своего рода жилы, которые не дают миру рассыпаться. Проведенная пером линия и есть эта, как бы овеществленная связь. И буквы — не что иное, как штрихи, линии, завязанные для прочности узелками и петельками. Перо завязывает черту в форму, образ, придает ей смысл и дух, как бы очеловечивает ее. Попробуйте провести ровную линию! Ну вот, теперь полюбуйтесь на этот дрожащий изогнутый волосок. Смертному не дано провести прямую. Прямая линия есть недостижимый в природе идеал, к которому стремится бесчисленное множество кривых. Так и буквы лепятся вкривь и вкось, тогда как в каждой из них заложена гармония, красота — в соразмерности изгибов, в стремительности наклона, в правильности пропорций. Перо — только регистратор, что безошибочно запечатлевает на бумаге все мечты и страхи, добродетели и пороки, толкающие вас под руку при каждом нажиме. Все происходящее в вашей жизни немедленно оказывается на кончике вашего пера. Расскажите мне о человеке, и я определю без ошибки, какой у него почерк.
Вот и начните с меня.
Вы — чудная, вы — необыкновенная, вы сами не понимаете, какая вы. А почерк у вас, Татьяна Дмитриевна, чистый, свежий, детский, даже буквы к концам строк растут…
Не продолжайте, Евгений Александрович! Какой вы все-таки душка. Взгляните-ка на какое-нибудь мое письмецо. Хоть на это. Нет, лучше на это. Нет, не надо. Да бог с ним, с почерком. Просто вы, хитрющий вдовец, волочитесь за мной, вот и плетете простодушной легковерной женщине всякое. Я же вас насквозь вижу и без всякого почерка. Ведь вы ко мне неравнодушны, не так ли? Ну-ка, признавайтесь в любви сейчас, немедля. Хотя все это ни к чему. Лучше молчите.
Подумать только, уже восемь годков, как нет больше моей Оли. А она ведь и не умерла вовсе. Ни с кем с тех пор об этом не говорил, а вам расскажу. У нас с ней всякое было, но худо ли бедно прожили столько вместе, и вдруг оказалось, что со мной рядом совершенно незнакомый, чужой человек. В свое время у Оли стал мутнеть правый глаз, она начала слепнуть. Я повез ее в Москву, нашел профессора, сделали операцию. Слава богу, все обошлось. И вот с тех пор раз в полгода, а в последнее время все чаще, она ездила проверяться. На мои расспросы отвечала, что все хорошо, а мне казалось, она что-то недоговаривает.
Я боялся, что Оля слепнет и молчит об этом. Она очень изменилась, стала замкнутой, раздражалась из-за пустяка, часто плакала по ночам. Раньше она любила по вечерам читать Коленьке книжки, теперь даже не притрагивалась к ним. Мне было страшно. Я хотел чем-то помочь, понимал, что ничего не могу сделать и оттого любил ее еще сильней. И вот как-то за ужином Оля разливала чай, и у нее прямо в руках разорвался фарфоровый чайник. Нас ошпарило, мы вскочили. И тут Оля стала кричать, что больше так жить не может, что ненавидит себя, но еще больше меня, что в Москву она ездит ни к какому не профессору, а к человеку, который ее любит и которого любит она. Я с трудом понимал, что она говорит. «Что ты хочешь?» — спросил я. «Я хочу не видеть тебя! — снова закричала Оля. — Я лучше удавлюсь, но так дальше жить не буду. Я уйду к нему. Я люблю его». — «А Коля? Как же Коля?» Она заплакала. «Но все это невозможно, — сказал я. — Я не могу жить без Коли, а Коля без тебя. Ты хочешь бросить сына? Невозможно, чтобы Коля всю жизнь стыдился своей матери и презирал ее. Этого не будет. Не может быть».
«Я знаю, — услышал я в ответ, — ты хочешь, чтобы я умерла! Хорошо, я умру!» Она вскочила и побежала вон из комнаты. Я попытался задержать ее: «Что ты мелешь! Прекрати!» Она вырвалась и заперлась у себя. Я испугался, стал стучать в дверь, но Оля вдруг открыла и почти спокойным голосом сказала: «Не ломай дверь, все хорошо». На следующий день за завтраком в присутствии Коли она заявила, что у нее опять что-то с глазами и завтра же она поедет в Москву в клинику. Что я мог сказать ей? Вместе с Колей мы поехали провожать маму на вокзал. Оля плакала, без конца целовала и тискала Колю. Мальчик вырывался и все просил привезти ему ружье. Утром другого дня пришла телеграмма из Рязани. Оле по дороге стало плохо, ее сняли с поезда, и прямо на вокзале она умерла. Телеграмму принесли, пока меня не было дома. Когда я прибежал со службы, у всех были серые заплаканные лица, только Коле ничего не говорили. Мальчик приставал ко всем: «Что случилось? Что-нибудь с мамочкой?» — «Нет-нет, — говорил я ему, — все хорошо, все хорошо». В тот же вечер я выехал за ней. Ехать было всю ночь. Попутчик жаловался на бессонницу и предложил мне играть в шахматы. Мы передвигали фигуры до самого утра. Иногда я забывался, но когда вспоминал, что произошло и куда еду, то принимался выть. Сосед вздрагивал, испуганно смотрел на меня. Вагон трясло, доска дрожала, фигуры все время выползали из своих клеток. Я переставал выть и поправлял их. На вокзале рано утром меня встретила Оля, какая-то чужая, красивая, в не знакомом мне платье. Увидев меня, она замахала рукой и разрыдалась. Первым моим порывом было ударить ее по лицу, я еле сдержался: «Что происходит?» Она только мотала головой и ничего не могла произнести. Ее всю трясло.
Я усадил Олю на скамейку: «Послушай, Коля еще ничего не знает. Поедем домой, объясним, что вышло недоразумение!» Наконец Оля пришла в себя. «Не перебивай меня, — сказала она. — Я уже все решила, что бы вы там все про меня ни думали. Место в багажном отделении уже оплачено. Остались пустяки: обивка, ленточки. Поезд в семь вечера, мы успеем». Все это было дико и невозможно, я ходил за ней, как в бреду. В магазине она долго и придирчиво выбирала ткань и ленты. Все ей не нравилось: то цвет не гармонировал, то материал казался никудышным. Она потащила меня в другой магазин, потом мы снова вернулись в первый. Пошли в какую-то контору, потом еще в какую-то и еще. К шести обитый голубым в рюшечках и бантиках гроб уже был на вокзале в отдельной комнате, оказывается, и такая предусмотрена. Мы зашли в буфет. Она смотрела в тарелку застывшим взглядом и молча глотала.