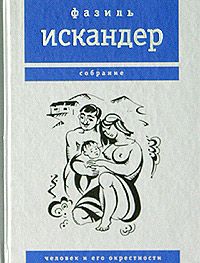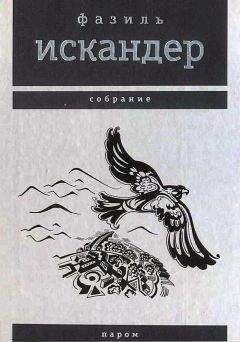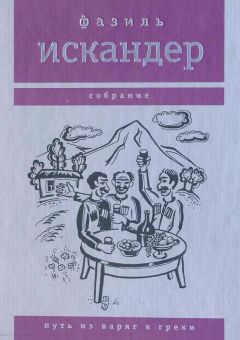Фазиль Искандер - Софичка
Я догнал Алексея уже на улице Энгельса, за два квартала от здания НКВД. Я его остановил, и мы заспорили, кому из нас туда идти.
— Послушай, Витя, не будь кретином, — сказал он, уставившись в землю, — ты прекрасно понимаешь, что они заинтересуются происхождением защитника… Ты недобитый враг, а у меня три поколения рабочих позади.
Я не уступал, и тогда он, как это с ним бывало и раньше, вдруг перешел на самый высокий тон и сказал:
— Ну, ладно. Пойдем оба. Если надо — умрем за нее.
Было уже около одиннадцати часов ночи. В дверях стоял часовой. Мы были готовы ко всему. Только к одному мы не были готовы, что нас не пустят. Выслушав наш сбивчивый рассказ, он проговорил:
— Здесь разберутся… А вы даже не родственники… Идите домой и не шумите! Будете шуметь — милицию вызову!
Мы ушли. Утром я рассказал отцу о случившемся. Маму я не хотел беспокоить. Он молча стал ходить по комнате, потом остановился и посмотрел на меня.
— Витя, пойми, во мне говорит не отец, а здравый смысл. Я их знаю больше двадцати лет. За это время никогда ни одна попытка защитить людей не увенчалась успехом. Она только подхватывает новых людей. Если ты пойдешь туда, ты там останешься и убьешь свою мать… Может быть, они сами их отпустят… Такое бывало… Не исключено, что вас вызовут… Вот тогда твердо держитесь версии князя… Другого выхода нет…
С неделю мы ждали, но нас никто не вызывал. За это время я трижды побывал в доме Зины, но квартира их была опечатана, а хозяин ничего о них не знал. В городе у них не было родственников. Я сходил к ее подруге, у которой мы были на дне рождения. Она была страшно перепугана. Она знала, что их взяли. То ли уже ходила какая-то версия, характерная для тех времен, то ли она сама ее придумала, чтобы отвести беду от своего дома, — не знаю. Она сказала, что их арестовали, потому что ее отец, работая в банке, способствовал распространению фальшивых денег.
— Вспомни, Витя, — говорила она взволнованно, — как они широко принимали гостей! Я сама видела своими глазами, как Зинина мама выбрасывала пирожные в помойное ведро под видом протухших… Бедная Зина не виновата, но ее отец…
Через несколько дней мы решили попросить в фотоателье переснять ее снимок, выставленный в витрине. Мы подошли к витрине и застыли в ужасе — на месте фотографии Зины висел снимок какой-то парочки.
Мы поняли, что это не случайно, и вошли в ателье. Там работал маленький фотограф по имени Хачик. Когда мы спросили у него, почему с витрины снята фотография девушки, он напустил на себя необыкновенную важность и сказал, что меняет снимки по собственному усмотрению и ни перед кем за это не отчитывается. Тогда мы попросили сделать нам копии с той фотографии. Видно, что-то в нашем облике его тронуло.
— Кто она вам, родственница? — спросил он, потеплев.
— Нет, — сказали мы, — она наша подруга.
— Идите, идите, ребята, — сказал он и болезненно развел руками, — эту фотографию я сам порвал… Политика! Политика! Хачик — маленький человек…
Мы вышли. Нам было ясно, что оттуда кто-то приходил и приказал уничтожить фотографию. Нас потрясло не только их всеведение, город у нас маленький, но и само безжалостное желание вырвать последнее, что от нее оставалось по эту сторону жизни.
Раздавленные этой избыточной энергией уничтожения, мы вернулись на веранду. В то лето мы разъехались навсегда. Коля уехал первым. Он и так собирался уезжать в Сибирь к дедушке и бабушке. При помощи старушки-кибениматограф он купил себе аттестат об окончании средней школы. До этого он говорил, что, уезжая, обязательно выселит Александра Аристарховича и продаст квартиру другому человеку. Но тут он лихорадочно заторопился, спустил всю свою огромную библиотеку пирату-букинисту, а квартиру, поленившись искать другого покупателя, продал своему старому жильцу, еще больше его за это возненавидев.
— Этот город исчерпал себя, — говорил он, — надо начинать новую жизнь.
Алексей уехал в Харьков и поступил там в университет на факультет иностранных языков. Женя — к родственникам в Краснодар и, видимо, за неимением под рукой другого вуза поступил в пединститут. Я — в Одессу в летное училище.
До самой войны мы с Алексеем переписывались. А он еще переписывался с Колей и Женей. Женя по-прежнему влюблялся, рисовал и писал стихи, а с Колей приключилась метаморфоза. Он поступил в университет, он член комитета комсомола, отличник. В научном кружке на его доклады по истории приходят профессора. В своих длинных письмах Алексею он иносказательно объяснял необходимость буддизировать действительность изнутри и, нежно заботясь о друге, настойчиво предлагал идти его путем.
Отец несколько раз заходил в дом Зины. Их квартиру теперь занимали другие люди, и хозяин ничего не знал о судьбе своих прежних жильцов. А я до самой войны все видел ее во сне. И ничего мучительней этих снов не было в моей жизни.
В каждом сне я ее искал и уже заранее с тупой болью предчувствовал, что не найду. Во сне я или сразу ее искал, или было мгновение счастья — и мы на веранде у Коли пьем кофе, шутим или дурачимся на вечеринке у нее в комнате, и вдруг она на минуту куда-то выходит и не возвращается. И я ее начинаю искать. Ищу у моря, в горах, в каких-то незнакомых городах, многолюдных вокзалах, на каких-то фантастических пустырях и нигде не могу найти.
И во сне терзает одна и та же мысль: как это я не догадался спросить, куда она идет, или почему я не вышел вместе с ней?! Ведь это так ясно было, что она сама дорогу назад никогда не найдет! Ведь это так ясно было!
И среди этих снов был один, не повторившийся ни разу. Миг счастливого дружества, мы всей гурьбой на веранде у Коли, но она же, эта веранда, почему-то наш с ней дом. И вдруг она с привычной легкостью вскакивает в своем летнем сарафане и входит в комнату Коли, которая одновременно и наша с ней комната. По той легкости, с которой она привычно вскочила и вошла в комнату, я понимаю, что она подошла к нашему ребенку, спящему в кровати. Но вот она возвращается, и я во сне уже испытываю знакомую тягость и начинаю понимать, что это сон, который я и раньше много раз видел, что она исчезла навсегда. И тут вдруг я соображаю во сне, что на этот раз это не сон, а явь, потому что раньше, во сне, она никогда не выходила к ребенку. Радуясь своей сообразительности, я вхожу в комнату в полной уверенности, что теперь это не сон и потому я ее сейчас там найду. Я вхожу в комнату и вижу, что кровать пустая и никого в комнате нет. И тогда я запоздало начинаю понимать, что те тягостные сны мне потому и снились, что они были предупреждением: береги ее, не отпускай от себя! И я в удручающей тоске теперь думаю во сне: как же я не догадывался о смысле тех снов, ведь это же ясно, что сны меня предупреждали! Как же я не догадывался! Нельзя же и во сне и наяву вечно повторять одну и ту же ошибку! И вот они ее взяли вместе с ребенком! И дополнительное стыдное чувство, что я почему-то забыл облик своего ребенка и никак не могу представить его себе. И вот они ее взяли вместе с ребенком.
Но как же, думаю я, они могли ее взять, когда другой двери нет, а мимо нас они не проходили? И тогда я вдруг вижу окно и не удивляюсь ему, хотя знаю, что в Колиной комнате нет окна, не выходящего на веранду. Взять ее могли только через окно. Но оно закрыто, и шпингалет изнутри задвинут.
Вдруг молнией догадка: один из них остался, он и задвинул шпингалет окна изнутри!
Я мгновенно оборачиваюсь и вижу в углу комнаты того хама, который смотрел на меня из-за кустов мимозы. Он стоит точно в такой же позе, как и тогда в кустах, но я почему-то понимаю, что он принял эту позу с той же быстротой, с какой я на него обернулся. Большой, чуть наклоненный вперед, с широким лицом и мокрыми волосами, налипшими на лоб, и с выражением подлого, пещерного любопытства в глазах, но теперь уже только ко мне, к постыдной тайне моей личности.
Мы опять смотрим друг другу в глаза, плотоядные губы его не шевелятся, но я как будто бы слышу его слова:
— Ты меня испугался…
— Нет, — кричу я ему, — это ты, скотина, тогда повернул и молча скрылся в кустах! Больше мы с тобой нигде не встречались!
А он, продолжая неподвижно смотреть на меня с выражением подлого любопытства к постыдной тайне моей личности опять, не шевеля своими плотоядными губами, уверенно повторяет:
— Ты меня испугался!
Я кричу, я пытаюсь ему напомнить, где и как мы встретились и кто повернул и бесшумно скрылся в кустах, а он с выражением все того же подлого любопытства смотрит на меня. И вдруг его толстые губы раздвигаются в неостановимой, торжествующей, почти добродушной и именно поэтому гибельной для меня улыбке. И я слышу его голос, хотя он только улыбается:
— Не все ли равно, где ты меня испугался… В кустах мимозы или где-нибудь в другом месте… Главное, что испугался…
И меня пронзает невыносимая догадка: он прав!!!