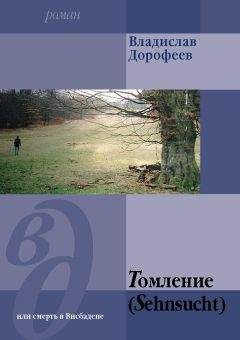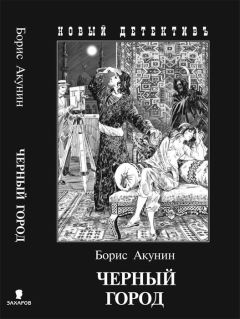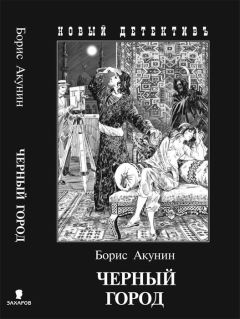Борис Полевой - Глубокий тыл
— Любил, внученька. Очень там не очень, немножкоили чрезвычайно — эти слова тут ни к чему… Любил, и все.
— А как же ты ее полюбил? Как эта любовь у вас вышла? — Серые глаза внучки тревожно смотрели на старика.
Вместо ответа тот вдруг спросил приятеля:
— Помнишь, какая она в девках была, Варьяша?
Приподнявшись на локоть, старый фабричный сердцеед, которого Варвара Алексеевна терпеть не могла именно за эту его слабость к женщинам, за масленые глазки, за дурной язык, вдруг ответил, задумчиво глядя на пламя костра:
— Огонек она была, Варька… И между прочим, Михайлыч, вот эта коза, — он указал на девушку, — на нее маленько похожа. Верно ведь?
— Верно, — подтвердил дед.
— А как ты ее встретил, бабушку? — продолжала допрашивать девушка, у которой мысли бежали своими, непонятными для старика путями.
— Чудно встретил! — Старик усмехался. — Шел в троицын день по лесу. Гулял. Тихо-благородно гулял вон там, в Большой роще, где теперь Новый поселок стоит. Ну, чуть выпивши, конечно, но самую малость. На мне рубаха синяя, пиджак диагоналевый, брюки в полоску навыпуск, а на голове не какой-нибудь там картуз или кепка — шляпа… Мы, раклисты, бывало, недопьем, недоедим, а уж оденемся чисто… Вот иду я тихонько, лады перебираю, и вдруг в чаще свистки. Крик, топот конский… Догадался я: это на тех фабричных, которые где-то здесь с кума-чозым флагом собрались, облава… Но мне что за дело! Я в их сходках не замешанный, я сам по себе… Должен я тебе, внучка, сказать: раклисты, граверы да художники в сторонке от политиков держались. Это ведь справедливо бабка мне по сей день в нос тычет: рабочая аристократия. Стыдно вот тебе, внучке моей, комсомолке, признаваться: не понимал я тогда, о чем это наши политики хлопочут, зачем царя ругают…
— Верно, верно, Михайлыч, святая правда… Мы, ресконтеры, тоже в сторонке были-с, — вздыхает Гонок.
— Ну, ты-то, мил друг, не больно в сторонке, ты-то и царский портрет нашивал… Но что там поминать, слава те господи, двадцать пять лет минуло! Да и не о том разговор.
— Ты говорил: шум, свист… а дальше? — торопит Галка.
— Ну, шум, свист, и кричат «держи». Ну, кого-то там ловят. А мне что? Я иду, наигрываю… И вдруг из кустов девица — простоволосая, в сатиновом, как сейчас помню, огурчиками набитом платьице, в полсапожках на резинках — и с ходу хлоп мне на шею. Обхватила руками и целует, целует, как меня в жизни никто и ее целовал. Я на нее гляжу: чья такая? И в старое время, когда, рассказывают, святые угодники на земле чудеса творили, не слыхать было, чтоб так вот девки с неба на шею падали. Но тут кряду ломит на нас из кустов полицейский со свистком и штатский, вертлявый такой, в зеленой кепке с пуговкой. И сразу я все понял… Что ж мне, бросать им на растерзание девицу? Делаю вид, будто их не вижу, и тоже ее целую. Стоим мы, точно одни в лесу, а краем глаза я на тех гляжу… Штатский-то, шпик, мигает городовому: мол, не те, пошли. И оба они обратно лезут — в соснячок.
А я девицу под ручку, гармонь под мышку — и в другую сторону.
— Эта девица — бабушка?
— Бабушкой она тогда, конечное дело, не была, — улыбается старик, — а была ткачихой, а фамилия у нее была Горохова.
— Ух, озорная была! Ее Горошиной звали. Все: Горошина да Горошина, — вставляет Гонок.
— Пошел бы ты, друг, на бассейну, водицы б ведерко принес. Там у меня в балагане свежая картошка, сварили бы. А?.. Давай-ко, не в службу, а в дружбу.
Степан Михайлович сам охвачен воспоминаниями. Ему не хочется, чтобы ему мешали. Когда Гонок, гремя ведром, исчезает во тьме, он продолжает:
— Идем мы с ней под ручку, а я все гляжу: кто ж это так крепко целоваться умеет? По виду сразу признал: наша, фабричная. Гонок верно говорит, она была аккурат как ты, только глаза черные да ясные. Чистенькая такая, на ногах полсапожки старенькие, каблуки стоптаны, а начищены — так и горят, платьишко стиранное перестиранное, а наглажерхо и подкрахмалено, как у барышни… Смотрит на меня, и ни испуга, ни смущения… «Спасибо, говорит, сударь, что вы меня не выдали». «Помилуйте, говорю, за что тут благодарить? — И добавляю: — Очень вы, сударыня, здорово целуетесь…» Она застыдилась, глаза опустила, и сквозь смуглоту — румянец. Й отвечает тихонько: «Вы не подумайте чего такого: это для конспирации».
— Конспирация-с! — хихикает Гонок, который уже успел принести картофель и воду.
— Брысь отсюда со своим смехом дурацким! — уже сердится Степан Михайлович. — Давай ведро, будем картошку мыть.
Старик отходит от костра, наливает воду в котелок, где лежит картошка, и вертит, вертит его до тех пор, пока клубеньки не зарозовели отполированными боками. Тогда, слив грязную воду с отставшей шелухой, старик заливает котелок свежей, бросает соли, вешает над костром. Потом, погрозив Гонку кулаком, усаживается возле внучки.
Галка еле переждала возню деда с картошкой.
— Ну уж, а дальше?
— А дальше я ей говорю: «Такая вы милая барышня, зачем вы в эти неженские дела лезете? За это, говорю, на каторгу гоняют…» Она ведь и тогда была как бритва. «Это, отвечает, сударь, не трожьте, это — мое и вас не касается, а если хотите до конца доброе дело довести, проводите меня домой, до девичьей спальни, будто мы со свидания идем». Сказала и опять шею мою руками обхватила, встала на цыпочки и губами ко мне… Тут уж я не сплоховал. По дорожке стражники скачут, проскакали, а я уж во вкус вошел, все целую, не отпускаю. Она головой мотает, отбивается, наконец вырвалась «Что вы с ума сошли, они уж где!» А я говорю: «А это уж, может, и не конспирация, а серьез…» Вот так наша любовь, внученька, и началась.
Старик принес из балагана и подбросил в костер дровишки. Сверху легла какая-то серой масляной краской покрытая доска. На ней сохранились остатки немецких букв. Пламя сразу объяло сухое дерево, краска пошла пузырями, и вот уже не видно стало и букв — один огонь.
— Горишь! — злорадно произнес Степан Михайлович. — Может, по всей Европе тебя Гитлер протащил, а вот сгореть тебе суждено здесь… Эх, внученька, как наш российский-то гражданин сейчас поднялся!.. Был в древности такой человек по имени Муций, по фамилии Сцевола, он сам руку себе на жаровне сжег, и вот уж сколько веков той стойкости люди дивятся! А что этот почтенный Сцевола, если его сейчас сравнить…
— А ты не сравнивай… Ну его, этого Муция! Ты про бабушку.
— Что ж, слушай про бабушку… Проводил я девицу эту до спальни. Тут она опять на цыпочки привстала, чмокнула меня — и бежать. Оглядываюсь, никого кругом нет, и думаю: это уж, Степан, не конспирация, это персонально тебе… Подумал я так и побрел к себе в Красную слободку, где в ту пору мы, два парня, молодые раклисты, у одного хорошего человека на пару комнатенку снимали… День проходит, два проходят, неделя проходит, а девица та черноглазая так и стоит передо мной. Ах, думаю, напасть какая! Не вытерпел однажды, взял гармонь, пришел вечерком к девичьей спальне, сел на скамеечку, пробежался раза два по ладам, ну, девушки-то из дверей и посыпались, как пчела на мед. Гляжу, средь них и моя… Так и пошло, Я им по вечерам играю — они танцуют. И она здесь среди них — губки бантиком: «Здрасте, Степан Михайлович, как поживаете?..» Смирная такая… Никому и в голову не придет, что она среди тех, кто против хозяев Холодовых да против царя людей бунтовал, одна из заводил… Ну, познакомились поближе, гулять вместе стали, но тех ее дел я касаться и не пробовал… Так и говорила потом: «Вся твоя, Степа, а это — особое, этого не трогай…»
— Вы что же, тогда с ней и сошлись?
— Нехорошее это слово, внучка, — «сошлись»! Да и вовсе не к месту тут оно. В той девичьей спальне строго было.
— Верно-с, верно-с… Меня раз, раба божьего, там помоями окатили и за дверь выкинули, — вспоминает Гонок. — В этой спальне так было-с: забредет туда молодой человек выпивши, как медведь в малинник, станет к ним приставать, а они его одеялом накроют и побьют… А то еще и хожалому скажут… Там Варвара у них всем и вертела…
— А хожалый — это кто? — спрашивает девушка, все больше заинтересовываясь.
Старики недоуменно переглядываются.
— Эх, внучка! — улыбаясь, говорит Степан Михайлович. — Шумите там на своих собраниях: проклятое прошлое, проклятое прошлое! А почему оно проклятое, вы толком и не знаете… Хожалый — человек такой от хозяина, в спальни определенный. Царь и бог был. Мог в любую минуту в какую хочешь комнату войти, в какой хочешь сундук нос сунуть… И была у него обязанность: управляющему обо всем наушничать и в полицию стучать. Вот кто такой хожалый… Его больше, чем самого старика Холодова, боялись. В пасху да в рождество все к нему с поклоном, с подарками да с поздравлением: с христовым праздником вас!.. Это чтоб он не очень вредничал… Хожалый! Больно скоро мы об этом позабыли. Вот сейчас перед войной какая-нибудь девчонка еще только к станкам встанет, сама от горшка два вершка, а уж: в спальне жить не хочу, подай отдельную комнату. Общежитие с койкой, да с тумбочкой, да шкафчиком — это уж не по ней… А как при Холодове-то, Гонок, помнишь? Вот девичья спальня. Комната, а по стенам нары, как полки в поезде «Максим», в три этажа. У нар лестница. Есть у тебя сундучок или узел, ставь под нижнюю нару. Это для девушек. А то были ребячьи спальни.