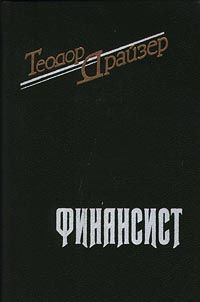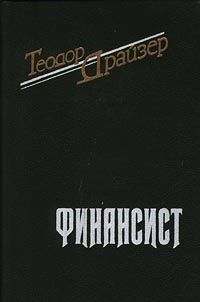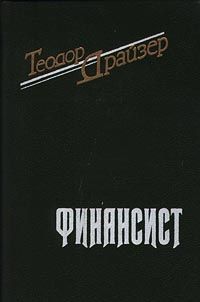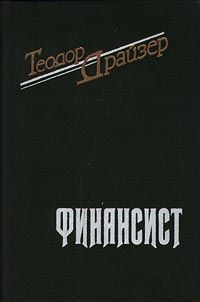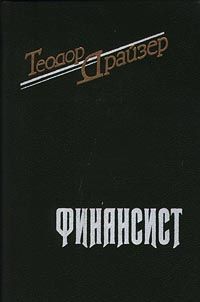Владимир Корнилов - Семигорье
Он застыдился своей вольности, смущённо пробормотал:
— Это я комаров…
Ниночка согнула руку, дёрнула его за ухо. Алёшка счастливо засмеялся.
— Нин! — шепнул он. — Ты меня будешь ждать?..
Ниночка как-то нервно засмеялась, спутала ему волосы и села.
— Ты в самом деле чудной! — сказала она, стараясь мягкостью голоса сгладить резкость слов. — Конечно, буду!.. Об этом не надо спрашивать. Это надо чувствовать!.. Дай я тебя поцелую, и пойдём в поле. Здесь в самом деле много комаров!..
Она скользнула губами по Алёшкиной щеке, встала. Среди черноты деревьев лицо Ниночки белело как будто вдалеке.
— Пошли, мой милый рыцарь!.. — сказала она и подала Алёшке руку.
Держась за руки, они бродили по окраине уснувшего городка, полевой дорогой ходили к темнеющему у оврага лесу, говорили о всяких пустяках, как дети целовались и смеялись, в рассветном сумраке рвали васильки по краям неубранной ржи.
Алёшка заметил, как суха трава и воздух слишком щедр на запахи — день только начинался, а откуда-то уже двигалось затяжное ненастье.
Они вернулись к парку под крики петухов, когда за Волгой и дальним лесом проступил медленный жар зари.
Ниночка боком прижалась к Алёшке, он её обнял, прислонившись к ребристому заборчику, и так в прощальном молчании они оба смотрели, как тяжело вставало над лесом солнце, краем пробивая хмарь.
В улице появились прохожие, Ниночка забеспокоилась.
— Светло уже. Тебе пора, мой милый рыцарь!.. — Она закинула голову и посмотрела ему в глаза с печальной и сожалеющей улыбкой.
«Мой милый рыцарь…» — надолго останутся в Алёшкиной памяти эти ласковые и грустные слова. Не раз повторит их Ниночка потом в своих письмах, которые не часто, но будут догонять его на изменчивых дорогах войны. И только много лет спустя, когда уже повзрослевший Алёша оживит их в своей памяти, он наконец услышит в ласковых девичьих словах грустную усмешку оскорблённой женщины. Но всё это будет потом…
УХОДЯТ НА ВОЙНУ…
Подводы растянулись по всему видимому тракту, медленно вползали на широкое нагорье. Вправо и влево от придорожных старых берёз томилась в августовском солнце выстоявшаяся пшеница. За ней, выше к селу, в этот час не первых уже проводов сиротно стояли суслоны не докошенного ржаного поля. Жёлтая пыль, как дым от горящего самолёта, стояла над дорогой, медленно отваливала вправо, к берёзам, на поля.
От головных подвод провожающие отстали, возницы прибавили лошадям шагу. Задние подводы были ещё облеплены людьми, и мужики, нетерпеливо перебирая в руках вожжи, придерживали лошадей. Они старались не смотреть в лица матерей, старух, молодух, малых и рослых ребятишек, они упорно смотрели на дорогу, под ноги лошадям, как будто это они, а не проклятая война, как будто они, мужики, увозили парней, отрывали сынов от материнских глаз и рук, от родимых домов, от земли.
Алёшка вместе с двумя парнями ехал на одной из последних подвод. Свесив с телеги ноги в пыль, как будто вспухающую от колёс, он сдержанно уговаривал Елену Васильевну:
— Мама, ну иди… Ну, хватит… Мы уже обо всём говорили… Я буду писать. Часто… Ну, иди, мам!..
Елена Васильевна, как привязанная, шла за телегой. Ноги её подгибались, она не видела ни камней, ни ям, не видела, что пыль окутывает её, и она идёт, как по воде.
Она видела только Алёшу, его худое, прокалённое солнцем лицо с облупившимся носом и обветренными, самолюбиво поджатыми губами. Она не слышала, что он говорит, она знала только, что это родное ей, ещё мальчишеское лицо сейчас уплывает вдаль, в неизвестность, и, может, — всё может быть — останется там, в чёрном дыму войны. Она глядела в беззащитные голубые глаза и не верила, что его сейчас уведут, и шла, и не могла остановить себя, не могла примириться с опустошающей минутой разлуки.
Алёшка видел округлившиеся, сухие от внутреннего жара глаза матери, её изломанные болью брови, видел её опущенные плечи, руки, как будто что-то ищущие, и, не давая пробиться рвущейся из сердца жалости и ответной боли, как заведённый повторял:
— Ну, мам!.. Ну, иди… Ну, хватит…
От последней подводы уже поотстали люди, а Елена Васильевна всё шла и шла, утопая в клубящейся пыли, упрямо наклонив голову, как будто уже одолевала несущийся ей навстречу тяжёлый поток где-то там, в войне, рождающихся бед.
Мужик-возница не выдержал, дёрнул вожжами. Лошадь заторопилась, перешла в рысь. Елена Васильевна побежала было за уплывающей телегой, вдруг остановилась, руками взялась за грудь, отошла в сторону от дороги и, не отнимая от груди рук, опустилась на корни берёз.
Алёшка рванулся соскочить с телеги, возница сердитым криком удержал его:
— Сиди!.. Нешто успокоишь мать!.. На войну идёшь…
Шагом въехали в Семигорье. У притихших домов жались друг к другу молчаливые бабы с ребятишками на руках. Ближе к дороге, опираясь на палки, стояли старики, из-под ладони придирчиво оглядывали бритых парней-новобранцев. У крылец старухи в чёрных платках дрожащими пальцами крестили лбы.
Мальчишки в будёновках, осевших на уши, с болтающимися ниже подбородка ремешками, галопом скакали вдоль обоза, размахивали деревянными саблями, возбуждённо кричали, на скаку рукавами отирая пот и сопли.
У дома Жени Киселёвой, в тени когда-то обгорелого, теперь уже зелёного старого тополя, стояла Васёнка, держа на руке Лариску. Рядом, уцепившись за Васёнкину юбку, замер в новой красной рубашке Рыжик, бывший сирота Лёшка, тот самый, которого Женя взяла из эвакуированного из Белоруссии детского дома.
Алёшка уже знал, что Васёнка сдала лесхозу казённый дом, в котором жила с Леонидом Ивановичем, отказалась принять его дела и переехала с дочкой и Зойкой к Жене. Лариска махала ручонкой. Рыжий Лёшка смотрел на едущих мимо с недетской угрюмостью: он знал, наверное, как безрадостно это движение людей и подвод по дорогам…
Алёшка помахал Васёнке рукой. Она заметила, посветлела лицом, поклонилась.
Проехали кузню с огрузнувшей, казалось, под тяжестью зеленоватого мха крышей. Из короткой кирпичной трубы наносило дымом. У каменного ворота, опираясь на слегу, стоял в залоснённом фартуке Гаврила Федотович. Среди старых борон, разбитых телег, колёс, рядом с чёрной, будто обугленной, кузней с мерцающим в раскрытой двери огнём ссутулившийся Гаврила Федотович был как погорелец на пожарище. Кузня стояла последней из семигорских построек.
Дальше, за придорожными, ещё екатерининских времён, берёзами, шло до самого леса знакомое Алёшке поле с ворохами соломы по стерне, первое в его жизни поле, по хлебам которого он повёл разуваевский «Коммунар». С любопытством и грустной радостью видел он остановившийся комбайн, дымок над трактором, сухую быструю фигуру Жени Киселёвой. Женя стояла на гусенице трактора, прямая и торжественная, как на трибуне отставив в сторону согнутую руку с крепко сжатым кулаком. Силясь перекрыть хлопки трактора, постук колёс, топ лошадей, она кричала им, едущим на подводах. Алёшка не слышал голоса Жени, но понимал, что кричала она, поняли Женю и другие ребята. Как по команде, взметнули они над головами сжатые кулаки и срывающимися голосами вразнобой закричали:
— No passaran, Женя!.. Они не пройдут!..
За перелеском, среди тускнеющих красок уходящего лета, неожиданно молодо зазеленели неубранные льны.
На бугре, за льнами, Алёшка заметил яркий белый столбик, как будто одна из берёз отступила в поле, в простор по-весеннему зеленеющей земли. Столбик вдруг ожил, синея макушкой, быстро понёсся через льны к дороге. Алёшка теперь видел, что это девчонка с огромным ворохом васильков торопится к обозу.
Девчонка выскочила на откос и замерла, быстрым взглядом обшаривая подводы. Все лица повернулись, парни на подводах кричали, смеялись, звали девчонку к себе, кто-то озорно свистнул.
Девчонка дерзко стояла у всех на виду, как будто не слыша ни свиста, ни голосов. Глаза её обегали подводу за подводой, кого-то, единственного из всех, девчонка искала.
Алёшка узнал Зойку, заволновался, заёрзал по телеге, потянулся снять очки, но махнул рукой и надвинул глубже на лоб козырёк фуражки. Подвода, на которой сидел Алёшка, поравнялась с Зойкой, и Зойка вдруг встрепенулась, как птица.
— Алёшка-а! — закричала Зойка.
Она рванулась с откоса и, взмахивая рукой, понеслась к подводе.
— Алёшка! Алёшка! — как заведённая твердила Зойка.
Она положила ворох васильков с ним рядом, вцепившись в край телеги, шла как солдатка за солдатом, не спуская с отчуждённого лица Алёшки ласкающих блестящих глаз.
Мужик-возница, придержавший было лошадь, поглядел на небо, сказал сдержанно:
— Ты, девонька, коли невеста, прощайся чередом. Отставать нам не дозволено…
Алёшка, чувствуя, что Зойка так не уйдёт, что она ждёт и требует от него каких-то слов, соскочил с телеги.