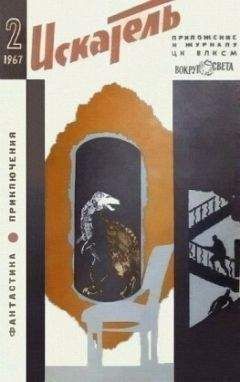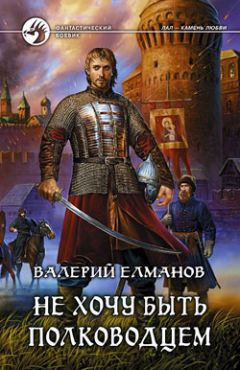Николай Самохин - Рассказы о прежней жизни
Пуськин распрямился — сел. Старуха испуганно отпрянула от тына.
— Ой! Да ты ить не Кистинтин поди! А мне, старой дуре, поблазнилось. Сослепу. Кистинтин-то у нас корявый… А ты не свойственник ему какой? Не из Ильинки ты будешь?
— Из Ильинки, бабуся, — сказал Пуськин, понимая, что в чем-то надо сознаваться.
— То-то я гляжу, — закивала старуха. — Не Спиридона Бусыгина племяш?
— Его, — сознался Пуськин и, чтобы предотвратить дальнейшие вопросы, сам поинтересовался:
— А вы-то чего здесь сидите?
— Да ведь тоже хоронюсь, — призналась старуха. — Вон от энтих вон ухорезов. — Она указала подбородком куда-то за спину Пуськину. — И как тебя, сердешного, к ним на двор закинуло?
Пуськин развернулся — глянуть, куда указывала старуха, но ему мешал высокий полный куст.
— Ты, батюшко, не высовывайся! — зашептала старуха. — Неровен час заметят! Это ведь такие злодеи… Что им в голову-то встрянет — поди узнай.
Пуськин осторожно раздвинул стебли полыни и увидел — рядом, рукой подать! — на крылечке соседней избы двух мужиков. Один был коренаст, чернобород и совершенно лыс. Чернобородость шибко молодила его, хотя, похоже, он был старшим, возможно, отцом. Другой — повыше (хотя в сидячем положении трудно было определить его рост), пожиже, во всяком случае, ломкий какой-то, похожий чем-то на того губошлепа-таксиста. Его уже покачивало слегка — кругами. Старший же сидел прочно.
Между ними стояла початая четверть самогонки, глиняная миска с огурцами и единственный, мутный стакан. Из которого они и угощались по очереди.
— Ышь! Трескають! — снова зашептала старуха. — С утра пораньше. В такой-то день божий — и жруть!.. Они ведь что удумали, озорники: матерь-то свою, Аграфену, — она сестра мне сродная, — взяли да затворили в курятнике. Зарестовали! Посиди, мол, там, одумайся… А я вот здесь прячусь… А что сделаешь-то с имя, с дураками.
— За что арестовали-то? — так же шепотом спросил Пуськин.
— А пить не давала… в святой день! Вот и зарестовали.
— Родион!.. Родя! — жалобно донеслось из курятника. — Да выпусти ты меня за христа ради, черт лысый!
— Цыть! — вяло сказал чернобородый. — Умолкни. А то вот запалю к такой матери — и спекёшься. Будешь вякать-то…
— Тьфу! — плюнула невидимая Аграфена. Помолчала и — изжалобив голос — воззвала с другому мужику: к сыну, как видно: — Вася!.. Васынька! Что же ты со мной творишь? С родной-то матерью, а? Ведь я же тебя, вражий сын, девять месяцев под своим сердцем носила!
— Г-гы! — качнулся губастый Васька. И куражливо тряхнул башкой. — Девять месяцев!.. Садись ко мне в штаны, старая ведьма, я тебя год цельный протаскаю.
Чернобородый папаша залился мелким смехом и — дабы поощрить сына за находчивость — набулькал ему в стакан.
— Во, как понужнул! — прокомментировала Васькин лихой глоток старуха. — И не захлебнулся!.. Ох, злые мужики! Ох, злые! Они, правда, и на работу злые — ничего не скажешь, ну а уж как винище примутся хлестать — никакого спасу нет… Ты бы их, батюшко, урезонил, а? — И стала учить Пуськина — как урезонить: — Ты скажи так: вот, мол, пожалуюсь пойду Спиридону — он вам лесу-то не продаст. Им лес нужон, они строиться собрались — Васька-то отделяться надумал.
— Да ведь продаст он, поди-ка, лес, — высказал Пуськин предположение о своем «дяде».
— И то правда, — согласилась старуха. — Такой продаст. Удавится за копейку. — То, что хулила она походя «сродственника» Иннокентия Васильевича, её не смущало. — Сам-то купил у барина Овчииниковскую рощу считай ни за что, за тьфу, а теперь гонить её делянками мужикам. По три шкуры дерёть, кровопивец! Скоро уж по грибы некуда будет сбегать…
— С Аграфеной-то как нам быть? — забеспокоилась она снова. — Уморят ведь они её, сердешную… Нешто к церкви пойтить? Там сёдни народ сберётся. Поклониться мужикам: свяжите, мол, их, безобразников. Или батюшку самого упросить — чтоб постращал.
Бабка порасшатывала слабыми, сухими ручками колья тына.
— Ты лезь-ка сюды, касатик. Не поднимайся в рост. А то ещё увидють. Ну их в болото.
— А что за праздник-то у вас, бабуся? — спросил Пуськин, просунувшись через тын.
— Дак колокола нонче поднимать будуть. Церкву новую отстроили — старая-то сгорела прошлым летом. Теперь вот новую отстроили, каменную. Божий храм… А сёдни колокола поднимать будуть. Святое дело. Как же не праздник.
Она чего-то вдруг задумалась, забормотала:
— Все равно мимо лавки иттить придется… — и уперлась задумавшимся взглядом в Пуськина. — Ну, вылитый ты Кистинтин. Вот гляну: Кистинтин и Кистинтин. Только что не корявенький… Ты мне, батюшко, не подсобишь, а? Шерсти у меня козьей тючок, полпуда. Донесть бы? Лавошник-то, Пантелей Кузьмич, обещалси два рубли дать. Оно, конечно, в городу-то и семь бы целковых положили, да ить до него, до города — ох-хо-хо! Туда-обратно — клади неделя. А проешь сколько!..
Село дугою тянулось вдоль высокого, крутого берега реки. И до того знакомой, родной прямо-таки казалась Иннокентию Васильевичу эта река. Не хватало ей только мостов, теплоходов, бетонной набережной, красивого здания речного вокзала с высотной гостиницей.
Лавка — а попросту обыкновенный деревенский дом, чуть побогаче разве других, с широким окном в нижнем этаже, опускающийся ставень которого заменял собой прилавок — оказалась где-то на середине их пути. Лавочник уже поднимал ставень, собираясь, как видно, пошабашить на сегодня.
— Пантелей Кузьмич! — засеменила бабка. — Батюшко! Погодь маненько! Мы тут шерсть!.. Шерсть вот!..
— А ищо попозжее не могла? — недовольно спросил лавочник. — Значит, всем людям праздник, а Пантелей Кузьмич тут с вами, с объедками, чертомель?
— Прости, христа ради. Припозднились. Черти эти бешеные, Родион-то с Васькой, опеть…
— Ладно, давай! — перебил ее лавочник.
Лицо у него было странное. Неестественное какое-то. Круглое, бело-розовое, точь-в-точь — коровье вымя. Только что бородой рыжей обросшее.
Он принял тючок от Пуськина, даже не взглянув на него (всяких, поди, тут насмотрелся), подцепил на безмен, взвесил.
— Да полпуда, Пантелей Кузьмич, полпуда! — заволновалась бабка. — Мы без обману.
— Без обману только господь бог, — строго сказал лавочник. — Да вон ищо курица моя: как день — так яичко. Хошь вешай, хошь не вешай — одно к одному… Ну, что ж?.. Рупь я тебе, стало быть, за ето положу.
— Как… рупь? — опешила старуха. — Ты же два сулился дать.
— Насчет дать — про это разговор особый. А насчет сулился… Это когда я кому чего сулил?! — громко вопросил он, словно к несметной толпе обращался. — А! Кому? Когда?.. Это вы мне все только сулите: «Пантелей Кузьмич, возверну! Пантелей Кузьмич, отсрочь! Пантелей Кузьмич, потерпи, отец родной, за ради живота нашего!..» Да я от ваших посул по миру скоро пойду… Рупь! — повторил, как отрезал. — А не хошь — забирай назад.
— Что ты! — испугалась бабка. — Что ты — назад! Праздник ить. Хоть монпасеек внучатам купить.
— Монпасеек? — издевательски переспросил лавочник. Он неторопливо, сладострастно сложил из толстых, корявых пальцев дулю и сунул под нос старухе. — Вот тебе монпасейки! — И, не убирая дули от лица бабки, другой рукой стал отбрасывать костяшки на счетах: — Под рождество три рубля брала? Брала. Да к святой два с полтиной! Таперича отымаем твой рупь — и что выходит? А выходит, что за тобой еще должок — четыре и полтина.
— Дак ить… Пантелей Кузьмич! Да побойся бога! Ить энти-то деньжата под новый умолот брали. Вот отмолотимся — и до копеечки…
— Отмолотимся! — передразнил её лавочник. — Кто отмолотится-то? Кирьян твой косорукий. Он уж одним глазом в гроб смотрит. А ежели помрет — мне с кого взымать опосля? С ваньки ветрова?
И все не отводил дулю-то, все держал ее перед носом бабки, а та, бедолага, даже лица не смела отворить. Пуськин не вынес этой сцены.
— Послушайте! — сказал вибрирующим голосом. — Зачем же так издеваться? Над пожилым человеком? Ведь это, простите, хамство!
— Хто хам?! — выкатил глаза лавочник (оказалось, на этом вымени еще и глаза есть — раньше Пуськин только щелки различал). — Я — хам?! Ах, ты!., лапотник! А ежели я тебя сычас безменом промежду глаз?! — И в самом деле сграбастав безмен, он ринулся пузом на прилавок.
Пуськин и бабка в страхе кинулись прочь.
— Я т-тебе! — пригрозил им вслед лавочник и с грохотом захлопнул ставню. Слышно было, как упали изнутри в петли тяжелые железные крючки.
— Ирод! — сказала бабка, вытирая кулачком слезы. Они стояли на противоположной стороне улицы — аж туда убежали. — Ну, не ирод ли? Вот тебе и праздник! Вот и монпасейки!
Мимо них тянулся к церкви принаряженный народ: бабы — в разноцветных ситцевых платках, мужики — в поярковых шляпах, в сапогах, обильно сдобренных дегтем.