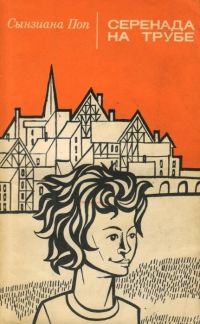Андрей Островский - Напряжение
Олег тоже взял «Смену» и «Известия».
— Как Петька-то мой? Не буянит?
— Ничего. Он у тебя нешумный, да и самостоятельный. Придет из школы — первым долгом за чайник… А вчера говорит: «Давайте, Максимовна, чаи гонять». Мы, мол, с вами одиночки. На полном серьезе. Ох, время-то, времечко бежит. Давно ли за мамкин подол цеплялся? А теперь… Вот только бы твой пострел без меня квартиру не поджег. Позавчера, в среду, весь вечер на кухне уголья толкли: приятель к нему пришел. Перемазались, что трубочисты, да и пол черным-чернехонек. Зачем, спрашиваю, мараетесь? Строго так спрашиваю. А мы, говорят, порох делаем…
— Порох?
— Вот-вот, я тоже так и обомлела. Для чего же это вам порох понадобился? Да разве скажут. А Петька божится, что, мол, жечь его не будут. Так ведь кто знает: вчера — одно, сегодня — иное. Вот и сижу сама не своя. Газеты продаю, а то и дело в нашу сторону гляну: не валит ли дым. Боюсь огня — страсть.
— Что за приятель? — спросил Олег, хмурясь.
— Да как же… Вовка. Иль нет… Борька… Ах ты господи, память-то старая. Не упомнила. Чернявенький такой, невысокий, родимое пятнышко на щеке, будто кто пальцем прижал… Бойкий такой мальчонка.
— Балахонов это. Знаю. Толька Балахонов.
— И верно, Балахонов. Он и есть. Петька его еще при мне Балахончиком звал.
— Вот я им покажу порох… Выдумают же, черти. Пиротехники!
— Ладно уж, ты не больно-то… Петька ребенок еще. Я ведь так просто, поболтать люблю. Может, им в школе такое задание дано?
— Если предположить, что школа — пороховой завод, тогда возможно. Всего хорошего, Максимовна. Здо́рово вы здесь мерзнете, в будке? Печка-то есть?
— Есть, есть. А отогреваюсь все одно дома. Максимовна осталась в своей избушке, а Олег пересек сквер и побежал к подходившему автобусу.
Глава вторая
1
К десяти все разномастные стулья в кабинете Мигунова были заняты. Олегу досталось холодившее дерматином тяжелое кресло на медных колесиках и с высокими подлокотниками. Он сел и вытянул ноги. Отвернув рукав щеголеватого пиджака, Мигунов посмотрел на часы и сказал резко:
— Кончайте разговоры. Время.
Это означало, что никто уже больше не может войти сюда, не вызвав его раздражения.
Сутулый флегматичный Женя Полесьев, отдежуривший сутки, долго хлопал себя по карманам, ища что-то. Наконец вытянул мятый листок и, заглядывая в него, стал вспоминать происшествия в районе, случившиеся днем, вечером и ночью. Не успел он сложить бумагу, как Мигунов спросил Олега:
— Что с кражей на Десантной?
— Вот заканчиваем обработку второй версии.
— Ну, проясняется что-нибудь?
— Пока ничего…
— Отложите всё и занимайтесь только этим делом. Федор Степанович, вы слышите? Кражей на Десантной. Больше ничем.
Федор Степанович Гуляшкин, для всех — просто дядя Федя, вздрогнул и поднялся поспешно. А Мигунов, не переставая говорить, изящно махнул несколько раз кистью руки, чтобы он сел.
Все со смирением слушали начальника или делали вид, что слушают, потому что была наперед известна его речь: подходит к концу месяц, управление требует сводки, а хвалиться нечем; показатели соседей, судя по всему, выше, а поэтому надо приложить силы… Это был вариант мартовской речи, а мартовская — февральской и январской. Из него не следовало, что положение катастрофическое. Так и было на самом деле. И все об этом знали. И все знали, что армия слов, выпущенная Мигуновым, уже бессильна изменить то, что есть. Но существовал порядок…
Олег пригрелся в кресле. Нащупав рядом с собой на сиденье пуговицу, обшитую тем же черным дерматином, он вертел ее и думал, что, вероятно, всюду, где работают люди, никчемное красноречие ворует время. И тот, кто сумел бы подсчитать и обнародовать размеры этой кражи, тот раскрыл бы самое грандиозное преступление.
Хорошо еще, что не нужно было выступать. Как только Мигунов кончил, все столпились возле узкой, обитой клеенкой двери, пропускавшей лишь одного. В коридоре Гуляшкин взял Олега за локоть:
— Есть у меня одна мыслишка. Хрен его знает, может, и не в цвет, но отчего не проверить. Как ты скажешь? Больно уж та мадам меня беспокоит. Неспроста она к Говоркову приходила. А?
— Ты знаешь, о Шутовой у нас с тобой одни и те же мысли, — сказал Олег. — Кстати, она уже судилась, по сто сорок четвертой…
2
Обедал Олег поздно, в большой институтской столовой, до которой пять минут неторопливой ходьбы. Возвращаясь, он зашел в дежурную комнату, в эту переднюю милиции. В ней, по обыкновению, было душно — пахло застоявшимся папиросным дымом, сапогами, по́том, чуть-чуть хлорной известью, — словом, всем тем, чем пахнет любая милицейская дежурка. Две дворничихи в окружении милиционеров перебранивались с растрепанной, исцарапанной женщиной. У женщины был сильный, визгливый голос, и она легко перекрикивала дворничих. Дежурный, капитан Лубко, болезненно морщился, прижимая к уху белую трубку телефона, и вместе с ней клонился к столу, говоря что-то в защищенный рукой микрофон. Потом медленно поднял глаза.
— Вот он, Кунгуров! Пришел! Здесь… Да прекратите же вы! — хлопнул он грузной ладонью по столу, уловив наконец, что́ ему мешает. Женщины стихли. — Олег, срочно!.. Солнечная, шесть, квартира шестьдесят три. Золина сейчас идет.
— А что там такое?
— Квартирная кража. Ты, говорят, у нас специалист по домушникам.
— Ты забыл прибавить «крупный». Василий, где твой мощный мотор? Поехали!
Зацокали по лестнице каблуки-«гвоздики» — Золина спускалась с третьего этажа, где работали следователи. На ней было стального цвета пальто и такая же шапочка с алым шелковым помпоном. Шапочка делала ее похожей на школьницу. На самом деле ей перешло за тридцать, и Олег довольно часто наблюдал из окна, как на противоположной стороне, у газетного щита, маячит сухопарая фигура мужчины, ее мужа. Иногда Олегу приходила в голову мысль, рожденная легко объяснимой завистью: почему не он томится у расклеенных страниц, не ждет, когда застучат позади острые каблучки… Но за делом мысль так же быстро исчезала, как и возникала. Тем не менее Олегу приятно было видеть Золину. Наверно, без всякого умысла, он что-то предпринимал, чтобы чаще доставлять себе это удовольствие. Иначе разве стали бы наблюдательные люди намеками, многозначительными подмигиваниями подчеркивать то, что им казалось бесспорным: влюблен!
Олег симпатизировал Золиной. Ему нравились ее большие, немного грустные глаза, ее неторопливая походка, ее спокойствие и достоинство. И было непостижимо, как это она, чистая и строгая, могла много часов подряд, один на один, допрашивать наглых, бесстыжих хулиганов, беспутных пьяниц, ханыжников, у которых что ни слово, то матерщина.
— Что-то в нынешнем месяце урожай на квартирные, — сказала Золина, садясь рядом с шофером.
Олег забрался в кузов синей оперативки, подсел к окну без стекла. Перед его глазами за крупной проволочной сеткой закачался алый помпон.
— Эх, жалко, вызов, — вздохнул Вася, шофер. — Цирк не досмотрел. Честное слово, цирк… Самый настоящий.
— Ты это о чем? — не понял Олег.
— Да вот бабы… Хм… Женщины… Вон та, зевластая, что в дежурной комнате сидит, значит, жена. А муж к другой стал похаживать, на той же лестнице, этажом ниже. Жене — собрание, заседание, командировка, пятое, десятое, а сам — к любушке своей. Да жена-то скоро узнала: чай, все на одной лестнице! Но молчала. А та возьми да и начни перед ней хвалиться, что, значит, мужик ее часики золотые купил в ювелирном и ей подарил. Как узнала про часы, прямо с ума спятила. Ну вот сегодня пришла к ней, будто по делу, да и давай лупить чем попало. Ту в больницу на «скорой» и уволокли. Не знаю, останется в живых, нет ли…
— Почему же цирк, Вася? — мягко спросила Золина. — Это скорее драма, трагедия!..
— Ну уж и трагедия, скажете! Из-за того, что муж к другой ушел, она не дралась, а вот за часики голову проломила. Тьфу… Твари…
Он притормозил — Олега привалило к окну. За поворотом открывалась Солнечная, новая, не завершенная еще улица, где все было новое: дома и магазины, асфальт и газоны, столбы и светильники… Кто-то безукоризненно точно выбрал ей имя. Челюстями экскаваторов она пробивалась на юг, к солнцу; ее кварталы, похожие более на ребячьи городки, нежели на дворы, были открыты для солнца; и даже плитки, влитые в дома, будто наре́зали из солнечных лучей, собранных на заре.
У дома номер шесть Вася снизил скорость и, проезжая мимо парадных, успевал посмотреть на эмалированные дощечки, прибитые над дверями.
На тесной лестничной площадке четвертого этажа их поджидала девочка в незастегнутом пальтишке с белым цигейковым воротником и в домашних туфлях. Она проскользнула в шестьдесят третью квартиру перед Золиной и успела крикнуть: «Идут!»