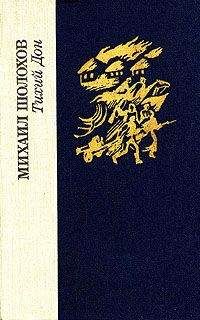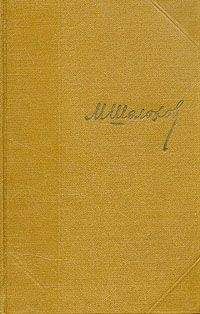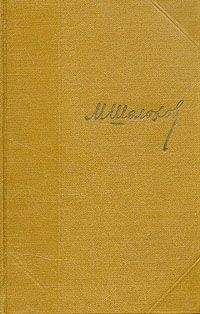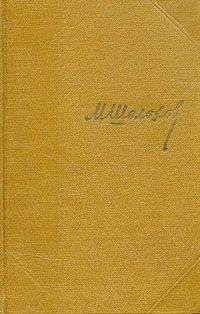Михаил Шолохов - Тихий Дон. Том 1
– Что же не идете, ребята, в помещение? – спросил Листницкий.
– Успеется, господин есаул.
– Надоисть ишо и там.
– Коней вот расстановим – тогда уж.
Листницкий осмотрел склад, предназначенный под конюшни, строго, стараясь вернуть себе прежнюю неприязнь к сопровождавшему его представителю, сказал:
– Войдите в соглашение с кем требуется и договоритесь вот о чем: нам необходимо прорубить еще одну дверь. Ведь не можем мы иметь на сто двадцать лошадей три двери. Этак в случае тревоги нам понадобится полчаса для того, чтобы вывести лошадей… Странно! Неужели это обстоятельство нельзя было учесть в свое время? Я вынужден буду доложить об этом командиру полка.
Получив немедленное заверение, что не одна, а две двери будут сегодня же пробиты, Листницкий распрощался с представителем; сухо поблагодарив его за хлопоты, отдал распоряжение о назначении дневальных и пошел на второй этаж, во временную квартиру, отведенную офицерам сотни. На ходу расстегивая китель, вытирая под козырьком пот, он по черной лестнице поднялся к себе, радостно ощутив сыроватую прохладу комнат. В квартире, за исключением подъесаула Атарщикова, не было никого.
– Где же остальные? – спросил Листницкий, падая на брезентовую койку и тяжело отваливая ноги в запыленных сапогах.
– На улице. Рассматривают Петроград.
– А ты что же?
– Ну, знаешь ли, не стоит. Не успели ввалиться – и уже сразу в город. Я вот почитываю о том, что происходило здесь несколько дней назад. Занятно!
Листницкий лежал молча, чувствуя, как на спине его приятно холодеет мокрая от пота рубашка, ему лень было встать и умыться, – сказывалась нажитая за дорогу усталость. Пересилив себя, он встал, позвал вестового.
Переменив белье, долго умывался, довольно фыркал, тер лохматым полотенцем полную, с серым налетом загара, шею.
– Умойся, Ваня, – посоветовал он Атарщикову, – гору с плеч скинешь… Ну, так что в газетах?
– Пожалуй, в самом деле умыться. Неплохо – говоришь?.. А в газетах что? Описание выступлений большевиков, правительственные мероприятия… Почитай!
Повеселевший после умывания Листницкий взялся было за газету, но его пригласили к командиру полка. Нехотя поднявшись, он надел новый китель, пахнущий мылом, неприлично помятый за дорогу, прицепил шашку и вышел на проспект. Перейдя на другую сторону, повернулся, разглядывая дом, где расположилась сотня. С внешней стороны, по типу, дом ничем не отличается от остальных: пятиэтажный, облицованный дымчатым ноздреватым камнем, стоял он в ровном строю таких же домов. Закуривая, Листницкий медленно тронулся по тротуару. Густая толпа пенилась мужскими соломенными шляпами, котелками, кепками, изысканно-простыми и нарядными шляпками женщин. В общем потоке изредка мелькала зеленым демократическим пятном фуражка военного и исчезала, поглощенная переливами разноцветных красок.
Со взморья волной шел бодрящий свежий ветерок, но, разбиваясь о крутые громады строений, растекался жидкими неровными струями. По стальному, с сиреневым оттенком, неяркому небу правились на юг тучи. Молочно-белые гребни их зубчатились рельефно и остро. Над городом висела парная преддождевая духота. Пахло нагретым асфальтом, перегаром бензина, близким морем, волнующим невнятным запахом дамских духов и еще какой-то разнородной неделимой смесью запахов, присущей всякому многолюдному городу.
Листницкий, покуривая, медленно шел правой стороной тротуара, изредка ловил на себе боковые почтительные взгляды встречных. Вначале он испытывал некоторое стеснение за свой помятый китель и несвежую фуражку, но потом решил, что фронтовику, пожалуй, и нечего стыдиться своей внешности, а тем более ему, только сегодня покинувшему вагон.
На тротуарах ленивые оливково-желтые лежали теневые пятна от парусиновых тентов, натянутых над входами в магазины и кафе. Ветер, раскачивая, трепал выжженную парусину, пятна на тротуарах шевелились, рвались из-под шаркающих ног людей. Несмотря на послеобеденный час, проспект кишел людьми. Листницкий, отвыкший за годы войны от города, с радостным удовлетворением впитывал в себя разноголосый гул, перевитый смехом, автомобильными гудками, криком газетчиков, и, чувствуя себя в этой толпе прилично одетых, сытых людей своим, близким, все же думал:
«Какие все вы сейчас довольные, радостные, счастливые – все: и купцы, и биржевые маклеры, и чиновники разных рангов, и помещики, и люди голубой крови! А что с вами было три-четыре дня назад? Как выглядели вы, когда чернь и солдатня расплавленной рудой текли вот по этому проспекту, по улицам? По совести, и рад я вам и не рад. И благополучию вашему не знаю, как радоваться…»
Он попробовал проанализировать свое раздвоенное чувство, найти истоки его и без труда решил: потому он так мыслит и чувствует, что война и то, что пришлось пережить там, отдалили его от этого скопища сытых, довольных.
«Ведь вот этот молодой, упитанный, – думал он, встречаясь глазами с полным, краснощеким и безусым мужчиной, – почему он не на фронте? Наверно, сын заводчика или какого-нибудь торгового зубра, уклонился, подлец, от службы – начхать ему на родину, – и „работает на оборону“, жиреет, с удобствами любит женщин…»
«Но с кем же ты-то в конце концов? – задал он сам себе вопрос и, улыбаясь, решил:
– Ну конечно же, вот с этими! В них частичка самого меня, а я частичка их среды… Все, что есть хорошего и дурного в них, есть в той или иной мере и у меня. Может быть, у меня немного тоньше кожа, чем у этого вот упитанного боровка, может быть, поэтому я болезненней реагирую на все, и наверняка поэтому я – честно на войне, а не «работаю на оборону», и именно поэтому тогда зимой, в Могилеве, когда я увидел в автомобиле свергнутого императора, уезжавшего из Ставки, и его скорбные губы, и потрясающее, непередаваемое положение руки, беспомощно лежавшей на колене, я упал на снег и рыдал, как мальчишка… Ведь вот я по-честному не приемлю революцию, не могу принять! И сердце и разум противятся… Жизнь положу за старое, отдам ее, не колеблясь, без позы, просто, по-солдатски.
А многие ли на это пойдут?»
Бледнея, с глубочайшей волнующей яркостью воскресил он в памяти февральский богатый красками исход дня, губернаторский дом в Могилеве, чугунную запотевшую от мороза ограду и снег по ту сторону ее, испещренный червонными бликами низкого, покрытого морозно-дымчатым флером, солнца. За покатым свалом Днепра небо крашено лазурью, киноварью, ржавой позолотой, каждый штрих на горизонте так неосязаемо воздушен, что больно касаться взглядом. У выезда небольшая толпа из чинов Ставки, военных, штатских…
Выезжающий крытый автомобиль. За стеклом, кажется, Фредерикс [41] и царь, откинувшийся на спинку сиденья.
Осунувшееся лицо его с каким-то фиолетовым оттенком. По бледному лбу косой черный полукруг папахи, формы казачьей конвойной стражи.
Листницкий почти бежал мимо изумленно оглядывавшихся на него людей. В глазах его падала от края черной папахи царская рука, отдававшая честь, в ушах звенели бесшумный ход отъезжающей машины и унизительное безмолвие толпы, молчанием провожавшей последнего императора…
По лестнице дома, где помещался штаб полка, Листницкий поднимался медленно. У него еще дрожали щеки и кровянисто слезились припухшие заплаканные глаза. На площадке второго этажа он выкурил подряд две папиросы, протирая пенсне, через две ступеньки взбежал на третий этаж.
Командир полка отметил на карте Петрограда район, в котором сотня Листницкого должна была нести охрану правительственных учреждений, перечислил учреждения, с мельчайшими деталями сообщил о том, какие и в какое время надо ставить и сменять караулы, в заключение сказал:
– В Зимний дворец Керенскому.
– Ни слова о Керенском!.. – заливаясь смертельной бледностью, громко прошептал Листницкий.
– Евгений Николаевич, надо брать себя в руки…
– Полковник, я вас прошу!
– Но, милый мой…
– Я прошу!
– Нервы у вас…
– Разъезды к Путиловскому сейчас прикажете выслать? – тяжело дыша, спросил Листницкий.
Полковник, кусая губы, улыбаясь, пожал плечами, ответил:
– Сейчас же! И непременно со взводным офицером.
Листницкий вышел из штаба нравственно опустошенный, раздавленный воспоминаниями пережитого и разговором с командиром полка. Почти у самого дома увидел казачий разъезд стоявшего в Петрограде 4-го Донского полка. На уздечке светло-рыжего офицерского коня, завядшие, понуро висели живые цветы. На белоусом лице офицера сквозила улыбка.
– Да здравствуют спасители родины!.. – крикнул, сходя с тротуара и размахивая шляпой, какой-то экзальтированный пожилой господин.
Офицер любезно приложил ладонь к козырьку. Разъезд тронулся рысью.
Листницкий посмотрел на взволнованное мокрогубое лицо приветствовавшего казаков господина, на его тщательно повязанный цветастый галстук и, морщась, ссутулившись, шмыгнул в подъезд своего дома.