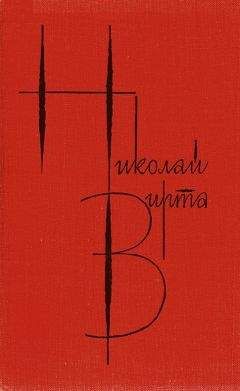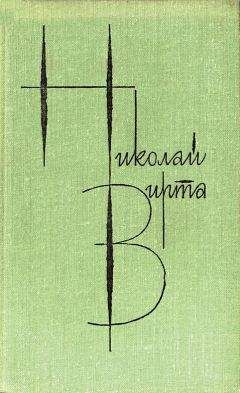Николай Вирта - Собрание сочинений в 4 томах. Том 1. Вечерний звон
— Врешь! — прикрикнула на него Таня. — В такие минуты не до смеха.
— А я смеялся. Погляжу на земского, он весь дрожит, зуб на зуб у него не попадает, словно не нас порют, а его. Становой — тот уж именно подлюга! Он теперь у нас не заживется, я всем так сказал.
— Ну и дурачок! — Таня покачала головой. — Вот уж действительно выдумал, чадушко! Найдется какой-нибудь сумасшедший, прикончит Пыжова, а в ответе ты будешь — сам ему грозил.
— Ну и смеху же было!.. — отмахнулся от предупреждений Листрат.
— Сейчас смажем твою спину йодом, послушаем, как ты будешь смеяться.
— Не надо, барышня, — заныл Листрат. — Ну его, от него дерет хуже крапивы.
— Ничего, зато и заживет скорее. Лежи.
Она вышла. Через несколько минут в кухню робко вошел Чоба.
— Вона! — сказал он сочувственно. — Иссекли тебя, парень!
— Иссекли, Илюха.
— Больно, поди?
— Чувствительно. Хоть вой.
— Чоба не нашелся, что сказать.
— Ты небось насчет клада? — улыбнулся Листрат.
— И то.
— Рой один, Илья. Я, видишь, не могу. И писарь ушел из села.
— Вона! Куда?
— Не знаю.
— Боязно мне одному-то, Листрат. Сам знаешь: место заколдованное.
— Тебе клад должен открыться. Человек ты светлый, что стеклышко. Всю твою внутренность видно.
— И то. Тихий я.
— Ну и копай. Поправлюсь — подсоблю.
— Ныне не буду. Ныне день нехороший.
— Верно. Ты повремени недельки этак три-четыре. Нечистый покрутится около кургана, ничего не заметит, да и марш к себе в преисподнюю. А ты тут как тут!
— Ладно. Ну, я пойду. А как же Книга Печатная? Не нужна теперь, поди? Грамотку-то изорвал этот идол.
— Пригодится. Грамота без книги ничего не стоит, а Книга и без Грамоты силу имеет. Ты копай.
— Если найду, кому ее отдать?
— Учительнице. Или нашей барышне. Они люди ученые. Ну, ступай. Кланяйся Аленке. Бабу ты себе выбрал смышленую. Даст бог — поживете.
— И то! — Чоба вышел, пригнувшись на пороге, чтобы не задеть притолоки.
2Таня принесла йод, чистые тряпки, вату. Вдвоем с Викентием они смазали и перевязали спину Листрата: тот орал как оглашенный.
— Хвастался, что под плетьми смеялся! Эх ты, герой-хвастун, — укоряла его Таня.
Покончив с перевязкой и приказав Листрату спать, Таня и Викентий пошли к Луке Лукичу.
Там орудовала Настасья Филипповна. Строго взглянув на вошедших, она проговорила:
— Вот до чего доводят бредни некоторых интеллигентов, — и ушла в угол отмывать кровь с рук.
Лука Лукич был в полном сознании. Фельдшерица сказала, что пуля пробила плечо, не задев кости, и вышла вон, миновав мышечные связки.
— Ну, что, Лука Лукич, пришлось пострадать? — спросил Викентий, садясь рядом с кроватью. — Говорил я вам, не затевайте скандала. Видишь, что получилось.
— Государя императора от меня, слышь, защищали, — ядовито усмехнувшись, сказал Лука Лукич.
— Чайку не хотите ли? — вмешалась в разговор Прасковья, жена Петра.
С ее толковой помощью Настасья Филипповна перевязала сначала Петра, потом Луку Лукича. Избитого Сергея взяла к себе родня, живущая поблизости от волостного правления.
— Собрать чайку, батюшка? Я прикажу Андрияну чурок наколоть.
Викентий отказался.
— Мы уже отпили, спасибо. Да, такие-то дела… — Он вздохнул.
Таня сидела безмолвная, понимая, что утешения были бы неуместны и смешны.
— Улусов мне сказал, будто я против царя пошел, — продолжал Лука Лукич. — И что в кутузке сидел — тоже придрался: почему сидишь, почему не ушел? Вот ведь он какой! А уйди — пожалуй, и убил бы. Вовсе непутевый человек.
Казалось, будто Луку Лукича больше всего волновало не насилие, учиненное над ним, а обвинение в том, что он бунтовщик. Он молчал о неизлечимой ране, нанесенной его вере в царя-батюшку; впервые в жизни притворялся старик, уверяя всех, что болит только избитое тело и раздражает напраслина, возведенная на него Улусовым. Он делал вид, будто дух его так же ясен, как всегда.
Лишь Викентий угадывал, что за этой бесстрастной покорностью судьбе кроется крушение надежд, потеря веры в царя. Он тоже молчал.
— Эка выдумал! — медленно выговаривал Лука Лукич, закрыв глаза. — Произвел меня в эти… Как их?
— В революционеры, — подсказала фельдшерица. Она сидела в углу и сердито курила.
— Вот, вот, — подхватил Лука Лукич. — Смехота одна!
— Ты бы уж молчал, дед, — вздохнув, заметила Прасковья. — Хуже бы не было…
— Не будет, — успокоил ее Викентий. — А что Петр?
— Прогнал меня, спит, — ответила Прасковья. — А все-таки помолчи, дед. Не к месту твои разговоры, — сурово добавила она.
— Нет, я в бунте не повинен, — кротко проговорил Лука Лукич.
— Блажен, кто верует! — Это сказала Таня.
— Вы, миленькая, хоть здесь-то не агитировали бы! — вспылила Настасья Филипповна.
— А что она такого сказала? — встал на защиту дочери Викентий. — Вся беда в том, что государь ничего не знает.
Лука Лукич, услышав эти слова, застонал. Таня усмехнулась.
— И государь и бог взыщут с них, — окончил свою немудрую мысль Викентий.
— Да что же это такое? — не вытерпела Таня. — Государь не знает, бог взыщет…
— Вот это верно, Танюша! Да разве тут возможно что-нибудь большое, настоящее? — исступленно заговорила Настасья Филипповна. — Да они сами спины подставляют: на, бей! А этот старый из себя святого корчит… Слушать вас не хочу, не желаю слушать! И, ради бога, молчите!
— Нет, вы напрасно, Настасья Филипповна. Если бы государь узнал, он бы этого так не оставил. — Викентий бросил упрямый взгляд на дочь. — И многое бы изменил, уверен в этом я.
Лука Лукич снова застонал.
— А Полтава? А Харьков? — спросила Таня.
Викентий не нашелся, что ответить. Прасковья, широко и сладко зевнув, перекрестила рот.
— Ваш бог, отец Викентий, — жестокий старик, если он позволяет так мучить людей. За что? Не верю я в такого бога. Прочь его! — Настасья Филипповна зарыдала.
Викентий подошел к ней, поцеловал в лоб и, ни с кем не попрощавшись, ушел.
3Таня сидела недвижимая, плотно сжав губы.
— Хорошо, — сказала она наконец. — Это хорошо. Пускай и он помучается. Тяжело, жалко, но ничего. Настасья Филипповна, полно вам, милая. Ну, мало ли что бывает. — Она обняла старую женщину.
— «Народная воля», — жестоко заговорила Настасья Филипповна, — таких Улусовых убивала, как бешеных псов. При «Народной воле» такие цари, которые начинали Ходынкой, были бы разорваны бомбой на куски. Гнева, Таня, разума в этих людях не вижу. Еще тысячу лет над ними будут издеваться — и стерпят. Из кутузки не посмеют уйти, сами под плети лягут, все оправдают. Проклятые, ненавижу их, ненавижу всех, всех!..
Прасковья бросилась за водой. Таня шептала Настасье Филипповне ласковые, успокаивающие слова.
Луке Лукичу стало горько и стыдно.
— Бабы, тошно мне, уйдите!
Таня увела Настасью Филипповну.
— Что с тобой, дед? — спросила Прасковья, проводив Таню и фельдшерицу. — Чего ты расстраиваешься?
— Ой, тошно мне!.. — Лука Лукич застонал. — За седую мою бороду, да на улицу, да в грязь, да в плети… За что он бил меня?..
— Кто он, дед? — в страхе спросила Прасковья.
— Царь, Прасковья, царь! Веру я потерял в него, — словно в бреду выкрикивал Лука Лукич. — Веру в божьего помазанника из меня его же слуги плетьми выбили. Тошно мне, тошно!.. Где же она, правда? Да пойми ты меня, господи! Пойми меня, вразуми! Чем я перед царем и перед тобой провинился, если меня так? Как же я сам перед собой оправдаюсь?
— Ложись, ложись, дед, — уговаривала свекра перепуганная Прасковья. — Господь с тобой, что ты говоришь-то?
— Тошно мне! Плохо мне, о-о, плохо! Уйди и ты, слышь, уйди!
Прасковья вышла.
4Ночью к отцу пришел Флегонт.
Много лет не был он дома, и ничто не изменилось здесь. Даже кувшин, из которого мылся его отец, висел на том же месте, и кошелки для наседок, казалось, все те же, и стены избы не белились за это время. Еще чернее стал потолок и грознее смотрел бог-отец со своего престола.
Лука Лукич спал.
Флегонт долго смотрел на отца. Ни единой морщины не прибавилось на его продубленной коже, и борода не побелела — такая же пегенькая, полуседая, как всегда.
— Батя! — Он притронулся к безжизненно свесившейся с постели руке Луки Лукича. — Батя!
— Кто тут? — Лука Лукич приподнялся на локте. — Что это мне померещилось? Словно бы Флегонт тут?
— Я, батя.
Лука Лукич опустился на подушку и заплакал.
— Сынок, родимый!.. Избили меня, изувечили, за что? — Он вытер слезы. — Где тебя носило, сын?
— Далеко, батя. В разных местах был, разных людей видел.