Анатолий Черноусов - Повести
Горчаков внимательно приглядывался к фундаментам, крылечкам, карнизам и крышам, запоминал формы фронтонов и веранд — все пригодится при строительстве!..
После того как разгрузили мотоцикл и Лаптев укатил к себе, Горчаков пошел смотреть огород и не узнал его. Как все изменилось за эти три недели! Из земли там и тут прет молодая трава, в ней уже скрываются разбросанные вокруг бревна, доски и кирпичи; на дудочках–стеблях светятся пушистые одуванчики, ажурными облачками цветет метельчатая травка–щучка, на межах возле заборов надурели полынь, лебеда и крапива; смородиновые кусты в соседнем огороде вздулись, словно копны, усеянные зеленым бисером маленьких ягодок.
«Торжество хлорофилла!» — ахал Горчаков, пробираясь к грядкам — что, интересно, там?..
На грядках — тоже перемены. Вылупились из земли чеканные листочки огурцов, выстрелил вверх узким зеленым пером лук, радостно кудрявится, шарит своими усиками в поисках опоры горох, стоят рядками степенные кустики бобов. У репы, редьки и редиски листья какие–то морщинистые, а у салата, наоборот, свежие, светло–зеленые, гладкие. Дружно лезут из земли чеснок, морковь, кабачки; всех обогнал в росте густой и щедрый пером лук–батун.
Горчаков не переставал удивляться: ожидал ли он, что здесь что–нибудь вырастет! Поддавшись на уговоры соседей, они с Риммой по весне разбросали на грядках какие–то невзрачные, все больше серенькие, семена, и вот, оказывается, из них, из ничтожных этих соринок, наворотило такое!.. Нет, он знал, конечно, что все растения рождаются из семени, и надеялся, что у них с Риммой тоже что–нибудь да вырастет, и все же теперь, когда выросло, не мог отделаться от ощущения чуда.
Внимательно приглядевшись к безжизненному, на первый взгляд, картофельному полю, он и там заметил нечто такое… Он увидел на ровной, прибитой дождями, земле какие–то бугорки, наклонился — так и есть! Лезет! Причем напор побегов столь велик, что вспучивается, трескается корочка земли, а из трещинок выдавливаются страдальчески сморщенные, с младенческим пушком, листочки. Горчакову чудилось, что они даже попискивают от натуги. У Горчакова мурашки бегали по спине, охватывало такое чувство, что земля вокруг него полна тайного и вместе с тем дерзкого движения; в ней что–то непрерывно шевелится, набухает, растет…
«Вот она, брага жизни!» — как–то даже торжественно думал Горчаков.
Но нужно было срочно сажать помидоры, иначе рассада, купленная на рынке еще утром, пропадет.
При тусклом свете полной (к счастью) луны Горчаков копал лопатой лунки и в каждую, по совету Лаптева, бросал немного перегноя, наливал воду и в образовавшуюся грязь погружал корешок рассады. Затем вбивал колышек и привязывал стебелек к нему.
Когда закончил и разогнул ноющую спину, была уже полночь, и круглая, до невероятности ясная луна высоко стояла в темном, припорошенном звездами небе. Фыркали пасущиеся за огородами кони, и оттуда доносилось мелодичное позванивание колокольчиков.
С заляпанными землей руками, донельзя уставший после долгой дороги и кровопотливой, в наклон, работы, стоял Горчаков посреди огорода, смотрел на луну, на ровные ряды колышков с белыми подвязками, смотрел на черную пирамиду бревен будущего дома, на залитую лунным светом деревню, на темную стену леса, на море, серебристо шевелящееся вдали; слушал тишину, чувствовал, как все вокруг растет, набухает, наливается соками, и думал о том, что какие бы трудности ни предстояли, как ни пришлось бы пластаться с бревнами и с землей, — словом, чего бы это ни стоило, он уже не уйдет отсюда, зацепится здесь, осядет.
Глава 17
Когда Горчаков завтракал, сидя в Парамоновой ограде у накрытого клеенкой стола, прибежал Виталька.
— Шлаку тебе надо? — едва поздоровавшись, спросил он и уставился на Горчакова — один глаз живой, горячий, другой холодный, безразличный; был Виталька небрит, взъерошен, кипуч.
— Шлаку? — встрепенулся Горчаков: шлак не только был нужен ему, он был просто необходим. Ведь если будет шлак, то можно сегодня же, сейчас же, начать заливку фундамента. — Он еще спрашивает! Конечно, нужен шлак. Еще бы!
— Так побежали! — заторопил Виталька. — Потом доешь, а то машина ждет. Шофер из Кузьминки ехал порожняком и попутно прихватил… Четвертную с собой не забудь, — напомнил Виталька и стал убеждать Горчакова, что это совсем недорого — четвертная. Да еще с доставкой на дом!
Побежали. Шофер был наверняка одним из многочисленных Виталькиных знакомых, и походило на то, что Виталька же ему и подсказал, как между делом заработать «четвертную».
Втроем они мигом разгрузили шлак на месте будущей стройки, на краю огорода, под самым лесом, Горчаков рассчитался с шофером и поспешил к Лаптеву: тот обещал помочь с заливкой фундамента.
Перво–наперво они сколотили из досок большое корыто, обшили его изнутри старой жестью, и получилась у них емкость для раствора, своеобразная бетономешалка. Затем разметили участок под фундамент, по углам его вырыли глубокие, до твердой глины, ямы под опорные тумбы и начали…
Насыпали в корыто шлак и цемент, хорошенько перемешали их, добавили воды, а потом, расположившись друг против друга и шуруя лопатами, замесили «квашню», как выразился Лаптев. Затем ведрами стали носить «тесто» — шлакобетон и заполнять ямы; когда же раствор заполнил ямы доверху, смастерили из досок опалубку и давай теперь уже в нее заливать раствор ведро за ведром, один замес за другим.
— За выходные дни мы должны еще успеть разобрать бревна по номерам и по стенам, — говорил Лаптев, со скрежетом ворочая лопатой в густом тяжелом растворе. — Да и за мхом надо бы съездить. Пока меня не будет, готовься к кладке стен. В следующие мои выходные навалимся на сруб, понял? А отпуск я возьму в июле, тогда уж используй меня на всю катушку.
— Слушай, Тереха, — растроганно сказал Горчаков, — а чем я тебе платить буду?
— А ты и платить собрался? — спросил Лаптев и даже приостановился, лопатой орудовать перестал. — Может, тогда содрать с тебя и за то, что ты у меня зимой квартировал? — По всему было видно, что Лаптев начинает сердиться.
— Ладно, ладно! — поспешил отступиться от своих слов Горчаков. Ему было неловко, что затеял этот разговор, но ведь и не затевать как? Кому же охота бесплатно, за здорово живешь, и в выходные дни и во время отпуска надрываться у кого–то на стройке?..
— Я тебя сагитировал, заманил сюда, втянул в это дело, — уже мягче, но все еще хмуря брови, говорил Лаптев, — стало быть… никаких разговоров!
Горчаков готов был обнять «старого бродягу» — человеком он был, человеком и остался. Даже вот обоснование нашел, вину себе придумал, дескать, виноват перед тобой и обязан вину искупить.
На другой день после обеда, оставив залитые опорные тумбы твердеть–каменеть, приятели помчались на мотоцикле искать затерянное в бору озеро, где, по словам Парамона, растет настоящий мох. А Парамон советовал ставить дом именно на настоящем мху, а не на том, который иные горе–застройщики сдирают в бору и который, подсохнув, крошится и вываливается из пазов.
Лесное озеро приятели нашли километрах в восьми от деревни; оно лежало в глубокой котловине, в окружении густого сосняка и выглядело сверху, с увала, как синее око бора.
Спустившись с увала, подъехали к камышу, разделись до трусов и, распугивая куликов и уток, зашлепали по мелководью сквозь тростник к чистине, к зеркалу озера. Там, среди блиноподобных листьев, лежащих на поверхности воды, мерцали цветы мраморных лилий.
— Чуешь, — говорил Лаптев, наклоняясь к лилиям и шумно втягивая носом воздух, — холодком напахивает!
Такое красивое, радующее глаз озеро, да еще с лилиями! Однако когда приятели приступили к работе, озеро перестало казаться райским уголком: ноги увязали в тине, а лесины, некогда поваленные в воду ветром, сильно затрудняли движение; сучья цеплялись за ноги. К тому же предельно пропитавшийся водой ржаво–зеленый мох был тяжел, а таскать его нужно было далеконько, на берег. Там, на сухом месте, возле мотоцикла, они его отжимали, как хозяйки отжимают–выкручивают мокрое белье, и разбрасывали для просушки. Мох, правда, был на диво хорош: его можно было теребить как кудель, как пеньку.
— Мох–долгунец! — удовлетворенно гудел Лаптев, нагибаясь к воде и загребая мох руками, точно граблями. Затем он приподнимал над водой охапку тяжеленного мха, с которого журчащими струйками стекала вода, и волок ее к берегу, увязая ногами в тине; чертыхался, спотыкаясь о топляки.
Иногда в раздергиваемом для просушки мху попадались маленькие запутавшиеся в моховых нитях карасики; Лаптев, журя рыбешек за бестолковость, выпутывал их, бережно относил в ладонях к воде и отпускал — растите! Добродушно усмехался, когда перепуганные карасишки, вновь оказавшись в родной стихии, живо улепетывали на глубину.

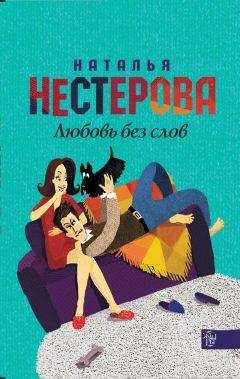
![Анатолий Землянский - После града [Маленькие повести, рассказы]](/uploads/posts/books/237651/237651.jpg)
