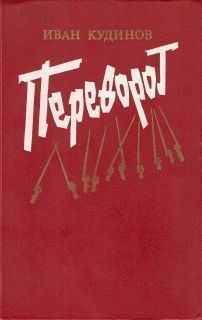Иван Кудинов - Переворот
— Ладно, поглядим.
— Глядеть-то особо долго, Корней Парамоныч, некогда. Делать надо.
— Попробуем. Испыток — не убыток. Только вот где столь шерсти да овчин набрать, чтобы ораву такую обуть да одеть? — усомнился. — Они, конешно, имеются кой у кого в заначке, овчины-то да шерсть. — Подумав, уточнил: — дак силком же их не возьмешь… Или как? — глянул испытующе.
— Силком и не надо, — развеял его сомнения Огородников. — Нужны добровольные пожертвования для нужд революции. Надо с людьми поговорить, обрисовать положение… Берись, берись, Корней Парамоныч. Найди помощников себе толковых — и за дело.
— Попробуем, — сказал он еще раз и, вздохнув протяжно, отвернулся, явно чем-то недовольный.
Солнце уже коснулось дальней гряды леса, и длинные расплывчатые тени лежали на снегу, пересекая улицу, тянулись к реке, сливаясь там, отчего крутой обрывистый противоположный берег выглядел сумрачным, даже черным.
И лицо Лубянкина сделалось сумрачным и замкнутым, словно тень нала и на него.
— А что это ты, Корней Парамоныч, вроде и говоришь, а все как ровно чего-то недоговариваешь? — спросил Огородников. — Если что… камня за пазухой не держи.
— Никакого камня я не держу… Заладил: Корней Парамоныч, Корней Парамоныч!.. — вспылил вдруг и умолк, сердито задышав. И Огородников несколько даже растерялся, не понимая этой внезапной и бурной вспышки.
— Что это с тобой, — глянул на Лубянкина, — какая муха тебя укусила?
— А никакая, — отвернулся тот и хмуро помолчал. — Ты мне вот-ка что скажи, — набрался, должно быть, духу, спросил: — Кем вы друг дружке с Варькой доводитесь? Кабыть и муж ты ей, а кабыть и не муж…
— Ну, это ты брось, Корней Парамоныч, ближе Вари нет у меня нынче человека. Знаешь ведь — жена она мне.
— Невенчанная.
— Это другой вопрос. И обсуждать его сейчас не время…
— Дак время-то когда придет, поздно будет, — буркнул обиженно Лубянкин, вдруг резко повернулся и горячо спросил: — А знаешь ли ты, Степан Петрович, что Варька в тягости?
— Знаю.
— Дите у нее скоро будет…
— Знаю, Корней Парамоныч. И очень хочу, — не менее горячо проговорил Огородников, — чтобы Варька родила мне сына… а тебе, Корней Лубянкин, внука, стало быть, — улыбнулся и протянул руку. — Ну, бывай! Да Варьку берегите тут без меня… Скоро еще наведаюсь. — И уже сидя в седле и разворачивая коня по свежему крахмалисто-белому и скрипучему снегу, весело прибавил: — А насчет пимокатной постарайся дела не затягивать. Штаб возлагает на тебя, Корней Парамоныч, большие надежды.
***Растянувшись на версту и развернув знамена, полк двигался на Смоленское. И Огородников, понимая душой и сознанием всю важность этого наступления, подумал, что надо бы все же бесшумнее двигаться, соблюдая большую предосторожность. Потом его отвлекла от этих мыслей возникшая вдруг песня — он услышал знакомый мотив и слова, звучавшие негромко, вполголоса, совсем рядом, и поискал глазами певца:
Белоногие да златорогие,
Они шли, брели на Киян-остров…
Огородников придержал коня, вслушиваясь и удивляясь: песню эту никто, кроме Митяя Сивухи, не пел, и она после его гибели стала уже забываться… И вдруг снова зазвучала, точно вернулась издалека, возникла из травы и деревьев вот этих, стоявших вдоль дороги, из самого воздуха, густого и жгучего, вернулась и зазвучала, как прежде. Огородников узнал голос брата, и он поразил его какой-то глубокой, невысказанной печалью. Хотя и не было в голосе Павла ни уныния, ни растерянности, а была только печаль, печаль и твердая вера в правоту этой песни, суровом, бесконечной и чуточку загадочной, как и сама жизнь.
Вот и Митяя уже не было, а песня его жила…
«Да, да, — подумал Огородников, — в этом, наверное, и есть высшая справедливость, что песни живут дольше людей. Но как хочется, чтобы и люди научились жить долго! — Эта странная мысль поразила его, и он еще подумал, решив для себя: — Когда-нибудь научатся. Только не слишком ли дорого приходится платить за эту науку?»
Где-то, не доходя до Старой Белокурихи, чуть в стороне от тракта, на проселке, конный разъезд полковой разведки перехватил две подводы со странными ездоками — по три человека в каждой кошевке,[10] шесть мужиков, явно не здешних, одетых добротно, в черных тулупах…
Разведчики спросили, кто они и куда направляются. Один из тех, которые сидели в передней кошевке, рослый и широкоплечий, отвечал спокойно и с некоторым даже вызовом:
— Едем в Бийск. Вот это, — кивнул на человека, сидевшего в кошевке и утопившего голову в огромный воротник тулупа, — это представитель американской миссии… неприкосновенная личность. Так что прошу не задерживать нас. Это чревато последствиями…
Разведчиков, однако, «чреватые последствия» не смутили, и они решили на всякий случай подводы задержать, которые и ехали-то на Бийск не по тракту, а путями окольными. Тотчас и командиру полка было доложено о задержании двух подвод с шестью ездоками, один из которых — иностранец.
— Иностранец, говорите? — переспросил Огородников. И засмеялся, вспомнив, как месяца три назад, под Сваловкой, задержали они Третьяка, приняв его за иностранца. — А с чего вы взяли, что он иностранец?
— Говорят, что представитель какой-то американской миссии, — отвечали разведчики. — Хотели мы с ним поговорить, да он ни бельмеса по-русски…
— Да? — удивился Огородников и, подъехав к передней подводе, спросил: — Кто такие, куда направляетесь?
— Едем в Бийск, — отвечал все тот же широкоплечий человек. — Сопровождаем представителя американской…
— Откуда? — перебил Огородников. — Откуда вы его сопровождаете? И как этот представитель оказался на территории Советской республики?
— Он ученый… очень крупный, — уже не так уверенно отвечал широкоплечий. — Интересуется целебными водами… в частности, белокурихинским радоном… Очень знаменитый человек.
— Ладно, — решил Огородников. — Коли он такой знаменитый — пусть с ним разберутся в штабе дивизии.
И вскоре представитель американской миссии предстал перед начдивом. Увидев перед собой богатырски сложенного человека, в огромной собачьей дохе, в лохматой лисьей шапке, с маузером на боку, заметно смутился, оробел и несколько даже сменился с лица.
— Ну? — сказал Третьяк, поглядывая остро и пристально из-под низко надвинутой шапки. — Значит, как докладывают разведчики, по-русски ни бельмеса?… Вот незадача, язви тебя! Ну, так говорите, если такое дело, по-английски — послушаем. — И вдруг построжел, сдвинув густые брови, шагнул вперед, приблизился вплотную, лицо к лицу, с «американцем» и негромко, но четко и ясно спросил:
— Who are you?[11]
Тот вздрогнул, поднял на Третьяка полные растерянности, страха и холодной ненависти глаза.
— I am reprezenter of American missien on Russia,[12] — ответил сбивчиво, осекся и замолчал.
— What do you say? Repeat![13] — переспросил Третьяк и засмеялся. — А что это вы, господин «американец», говорите на таком «диалекте» — смесь английского с вятским? Такого языка я не встречал ни в одном американском Штате… Кто вы? Надеюсь, этот язык вам понятен? Тот молчал.
— Ну что ж, разберемся после, — сказал Третьяк. — Разберемся, можете не сомневаться. — И насмешливо добавил: — Good-bye![14]
Позже выяснилось, что выдававший себя за представителя американской миссии — не кто иной как поручик Кирьянов, один из самых жестоких карателей, пытавшийся скрыться от возмездия за свои кровавые дела и бежавший в Бийск, под защиту колчаковских войск… Но скрыться ему не удалось.
***В конце девятнадцатого года развернулись ожесточенные бои красных партизан с колчаковцами по всему Алтаю — степному и горному. Северо-восточнее Барнаула, в салаирской черневой тайге, мужественно противостояла регулярным белогвардейским частям Чумышская дивизия Матвея Ворожцова (известного по партийной кличке Анатолий), бывшего военного летчика, юго-западнее вела наступление армия Ефима Мамонтова, к ней вскоре примкнули дивизии Громова, Захарова, Архипова… А на юго-востоке, по левобережью Катуни, действовала Первая Горно-Алтайская партизанская дивизия Ивана Третьяка, в состав которой входило уже одиннадцать полков, насчитывающих в своих рядах восемнадцать тысяч человек.
Между тем белогвардейцы все еще удерживали в своих руках Бийск, считая его главным опорным пунктом на юге Западной Сибири. Бийск был удобен во всех отношениях: он связан с Барнаулом и Новониколаевском не только железнодорожным, но и водным путем — но Оби. А главное — отсюда начинался Чуйский тракт, дававший выход в Монголию. Лучшего пути в случае отступления не придумаешь! Колчак не раз подчеркивал в своих приказах важное значение этой магистрали, требовал неукоснительно, чтобы Чуйский тракт на всем своем протяжении — шестьсот верст — контролировался правительственными войсками.