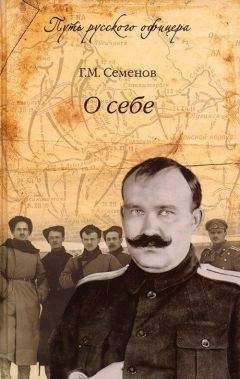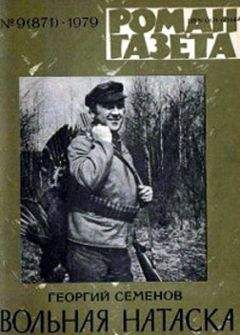Георгий Семенов - Ум лисицы
Из черного проема конуры на меня смотрела собака. Именно ее взгляд я и почувствовал затылком, именно он и остановил меня.
Сощуренные ее глаза в слабой надежде слезились старческой немощью. Большая голова, скуластая, беспородная, с толстыми, на хрящах висящими ушами, приподнялась, звеня цепью, словно собака увидела или учуяла сострадание в моем сердце. Седые брыли ее растянулись в улыбке, и собака выкарабкалась из конуры. Была она статью своей и цветом отдаленно похожа на русскую гончую, с черным чепраком и рыжеватыми подпалинами. Грудастая и прочная, на костистых ногах, она встряхнулась, и, заколотив по гачам жестким хвостом, радостно, звучно зевнула и, поскуливая, запросилась ко мне, видимо, по-своему, по-собачьи, вычислив меня, уловив во мне жалость.
Пришлось отстегнуть карабин, и, когда собака набегалась, позвал ее в дом; она послушалась с превеликим удовольствием.
Конечно, она была голодна, но не настолько, чтобы есть пустой хлеб. От нее сильно запахло псиной, когда она улеглась напротив горячей печки. А печка гудела, трещала сухими дровами, капая, как раскаленным металлом, красными углями сквозь колосники в золу поддувала. Собака давно уже не испытывала такого блаженства, и, когда я отворял топку, она чутко открывала огненно-красные, дрожащие глаза, в которых отражалось бушующее пламя, и сквозь дремоту улыбалась, будто ей снился счастливый сон.
Это ее состояние меня стало беспокоить, и я сердито сказал:
— Не я купил дом, глупая! И ни на что не надейся. Все это мираж! Я не хозяин твой, а обманутый дурак…
Но она застучала хвостом по полу, как палкой, и в зевоте показала мне старые свои зубы и огненно-красное ребристое нёбо, освещенное пламенем.
Радиоприемник наигрывал музыку, печь гудела, согревая жилище, большая собака лежала раскинувшись на досках крашеного пола. А за печью свалены были бумаги. Это были старые газеты и журналы. Среди них попадались «Наука и жизнь», «Здоровье», «Огонек», которые я откладывал в сторону, чтобы полистать перед сном. Все они были безнадежно устаревшими, а потому, если я даже читал их, в памяти моей ничего не сохранилось. Иногда смешно и грустно бывает листать старые иллюстрированные журналы, видеть знакомые лица, слава которых казалась немеркнущей, читать речи и воскрешать в памяти подробности отшумевшей жизни.
«А почему он сказал «старушка»? — подумал я, отвлекаясь и разглядывая собаку. — Он старик! Как-то ведь надо его назвать… Наян?»
— Наян, — тихо сказал я, и собака тут же подняла голову, прислушиваясь. — Ты Наян? Не может быть. Спи давай, балбес. Я завтра все равно смотаюсь отсюда. Ничего не жди.
И собака уронила башку, стукнула сырой костью по полу. Я даже услышал тяжелый, глубокий ее вздох, как если бы она все поняла. Видно, привыкла к человеческому голосу и улавливала интонации. Цепная собака на это не способна.
Широкий диван, обитый грязной, засаленной, почерневшей на сгибах узорчатой тканью, был ужасен. Жесткие бугры пружин упирались в ребра, и от боли избавиться не было никакой возможности. Они не скрипели подо мной, а скрежетали, ухали, стреляли. От дивана пахло плесенью. В доме стало так жарко, что пришлось настежь открыть окно. Во тьме моросил дождь.
Я испробовал все способы, какие только знал, чтобы уснуть, но сон не приходил. Меня пугало одиночество, мне грезились кошмары, я со стоном вздыхал, на что Наян откликался глухим сквозь сон рыком.
— Спи, — говорил я ему, радуясь, что можно кому-то это сказать. — Спи, несчастный. Не знаешь, что надо спать, и спишь, а я знаю, а потому и не сплю. В этом наша с тобой принципиальная разница. Да-а, Наян, да, дорогой…
В темноте сквозь мокрый шепот дождя я слышал, что Наян слушает меня. Это было очень странное, новое для меня состояние: слышать слушающую душу, ее внимательную затаенность во тьме чужого дома.
Это было очень трогательно. Мне даже почудилось вдруг, что какой-то замочек, висевший в моей груди, маслено щелкнул механизмом, дужка откинулась и замочек соскользнул во тьму, отворив во мне дверцу в былой мир радости. Я понял, что уснуть мне в эту ночь не удастся… И готовился встать, зажечь свет и одеться… Увидел опушку елового леса, такого темного, что казался он черным в солнечный день. А перед опушкой расстилался спелый серебристо-желтый овес, как будто высыпанный с небес в зеленую чашу леса. Над чашей этой голубизна, а в голубом сиянии — стада облаков, гонимые верховым ветром. В небесной бездонности они плыли на небольшой высоте. Светящиеся по краям, они тоже казались голубыми, прозрачными, как перья белых птиц. Маленький соколик — пустельга — трепетал крылышками, зависнув над овсяным полем. Тени от облаков гасили вдруг яркую желтизну овсов и, скользя, накидывали на поле сеть. И тогда ели на опушке становились зелеными, но не надолго. Солнце опять уже озаряло поле и во мрак погружало еловый лес, из которого когда-то на это поле выходили тетерева. Теперь тишина. Ни грохота взлета, ни мелькания тяжелых, кургузых птиц…
Я открыл глаза и понял, что это был сон. Так много радости сулили светлые его картины, что я с удивлением ощутил свое дряблое тело, лежащее на бугристом диване, и ужаснулся, ибо время, которое я здесь без смысла тратил, напомнило мне вдруг о других заботах, о других страданиях и муках, как если бы я неожиданно брошен был опять в пучину жизни, исполненную животворящих и гибельных страстей.
Восторженное это и возвышенное состояние, какое испытал я, придало мне сил, я поднялся, зажег свет, оделся и, чувствуя звериный голод, сказал Наяну, чтоб он катился к чертям собачьим со своими ласками, распахнул ему дверь в дождливую ночь, а сам поставил чайник на теплую еще плиту и принялся снова растапливать печь. Я знал в эти странные минуты, что теперь мне все удастся сделать в жизни; я без всякого уже сомнения знал, что брошу курить и опять радостные силы наполнят мои мышцы, отравленные никотином. Мечтательный дух вошел в меня, горло мое перехватило от сознания, что впереди еще много будет счастливых дней, я понимал себя в эти блаженные минуты так, будто поднялся с постели после тяжелой и опасной болезни, которую победил. Я был победителем!
В общем, чувствовал я себя, если говорить всерьез, довольно скверно, потому что состояние мое было сродни истерике, то есть я легко мог сорваться в слезы, перевозбудив себя бессонницей и затянувшейся хандрой, и то, что казалось мне тогда освобождением, было другой, не менее опасной крайностью, когда жизнь моя стала мне казаться суетным, торопливым и восторженным движением к стремительной победе. Я думал черт знает о чем в эти тревожные минуты!
На ум пришла вдруг сумасбродная идея начать новую жизнь, женившись на красавице литовке; поселиться на берегу какого-нибудь рыбного озера, в добротном доме, ловить рыбу в благословенном краю, вжиться в обычаи и привычки хуторянина, обрубить все концы, связывавшие меня с прежним существованием. И видел я себя человеком как будто бы совсем еще молодым, а потому и в жены себе выбирал молодую… Чудилось мне, что нет на свете женщин милее белокурых литовок. Настороженный и горделивый их взгляд манил мою душу, омолаживал и бередил несбыточной мечтой.
Дрова в печи между тем приняли огонь сгоревшей бумаги, и печь, сначала медленно и туго, но с каждой минутой все сильнее разгораясь, загудела окрепшим огнем. Клочок бумаги, который я держал в руке, не понадобился — пламя уже обнимало все поленья.
В пальцах у меня трепетала пожелтевшая страница какого-то рукописного текста. Почерк был необыкновенно красив: каждая буковка, написанная с любовью и той витиеватой легкостью, которая говорит о привычной руке, была строго наклонена вправо, все заглавные начинались с лихого росчерка, словно человек, писавший их, щеголял своим умением, но в то же время и о читателе думал, берег его глаза и нервы, строго выписывая каждую линию, каждый завиток. Так теперь никто почти и не пишет. Во всяком случае, именно эта каллиграфия и привлекла меня к листу бумаги, который я держал в руке.
Делать было нечего. Наян, вернувшийся с прогулки, опять улегся на теплый пол перед топкой, а я присел к столу и, слыша, как сипит чайник с водой, начал читать.
С первой же строки я понял, что это литературное сочинение или, точнее сказать, продолжение его, потому что наверху страницы стояла цифра три, тоже начертанная с необыкновенным изяществом, напоминая стремительной своей линией зигзаг крохотной черной молнии. Я с трудом разыскал в бумажном хламе еще несколько десятков подобных страниц, разложил их по порядку, но начала, увы, найти не смог, хотя и перерыл все бумаги. Видимо, я растопил им печь. Зато был конец. На страничке так и было написано: «Конец».
Я заварил в фаянсовой кружке крепкий чай, закурил и, затягиваясь дымом, увлекся чтением. Да так, что и про чай забыл. Передо мной была рукопись искреннего человека, который писал свою повесть, по-видимому, не для печати, — все, о чем он рассказывал в ней, не ложилось в рамки привычных публикаций.