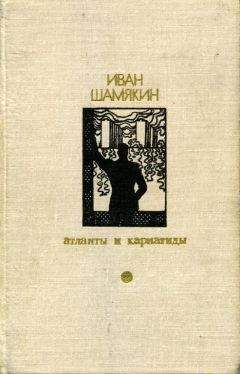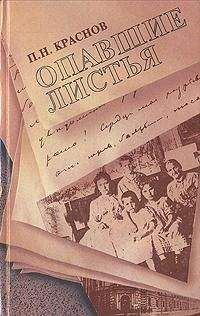Иван Шамякин - Атланты и кариатиды (Сборник)
— Я тебе шинель дам. Кило сала. Литр самогонки. И накормлю от пуза.
Он весело свистнул. С иронией сказал:
— Неплохая цена.
— Разве мало даю?
— Да нет, щедро. Но шинель мне пока не нужна. — Он нахмурился. — Будь здорова, торговка.
Слова этого «торговка» Ольга не любила. Сама торговля не оскорбляла, работа не хуже любой другой, так считала ее мать, так и она считает, а слово обижало.
Подошел знакомый полицейский — Федор Друтька.
«Появился нахлебничек, нигде без вас не обойдется», — подумала Ольга, но без злости, потому что Друтьку этого считала человеком: не нахал, не хапуга, ласковый, добрый, а главное — молодой и красивый. Ольга не любила стариков. Но и к ласковости Друтькиной относилась осторожно.
— Не замерзла?
— Не-ет...
— Кровь у тебя кипит. А я заколел, пальцы не могу разогнуть. Откуда он, такой холод? Рано же еще.
Ольга незаметно вздохнула: знала, чего ждет полицай, когда жалуется на холод. Нагнулась над прилавком, не вынимая бутыль из корзины, накрытой платком, налила в кружку, протянула Друтьке. Тот как-то стыдливо оглянулся, но соседки торговки отвернулись: они, мол, не видят, у кого угощается пан полицейский. А пан очень быстро, с размаху, выплеснул полкружки вонючей самогонки в пасть. И застыл, будто прислушиваясь к сигналу далекой тревоги, потом весело крякнул:
— Вот когда, падла, дошла до жилочек! Огонь! Пламя!
Ольга про себя думала: «Жри, чтоб тебе внутренности сожгло», — но все же засмеялась: угостить человека ей всегда было приятно.
Развернула старое одеяло, достала из кастрюли вилкой два драника и опять подумала: «На, живоглот, закуси».
Полицай запихнул в рот сразу два драника, проглотил не жуя. Похвалил:
— Вкусное у тебя все, Ольга. Хорошая ты хозяйка. Бери меня в примаки.
Ольга весело крикнула соседке:
— Слышала, тетка Стефа? Еще один примак! Вот везет мне!
И повернулась к полицаю:
— Тут перед тобой, посмотрел бы, какой пан напрашивался в примаки. Ого! Мужчина во! А какой кожушок на нем. Чудо!
Друтька нахмурился.
— Из панов не бери. Из нас, мужиков, выбирай.
— О чем это вы болтаете? У нее муж есть, — вступилась за Ольгу соседка.
— Где он, ее муж? — Самогонка ударила в голову, и Друтька, сразу побагровев, угодливо улыбнулся: хотелось еще выпить, и он было потоптался перед Ольгой, но вымогать не стал, пошел искать других, кто платил дань такой же жидкой натурой.
— Вот повадились, как татары, — сказала Стефа, когда полицай отошел.
Через некоторое время они, четыре опытные торговки, стали обсуждать размеры взяток, которые следовало давать полицаям и немецкому патрулю, — кому сколько, чтобы была одна норма, одна тактика.
В разговоре Ольга не заметила, как перед ее прилавком появилась Лена Боровская, или просто не сразу узнала подружку. С того времени, как поссорились в начале войны, они не разговаривали и видели друг друга только издалека.
Лена была в стареньком пальто, слишком легком для такой погоды, голова обернута клетчатым, как плед, платком, теплым, но старомодным, такие платки разве что еще до революции носили. Правда, теперь в оккупации, никакая одежда не удивляла, из сундуков вынималось все старье — старые шубы, сюртуки, сарафаны, армяки, поневы, их носили, торговали ими, выменивали на продукты. Но Лену платок этот очень старил, она выглядела в нем пожилой женщиной. Ольга даже растерялась, когда наконец узнала ее. Лена очень похудела, лицо вытянулось, пожелтело, нос удлинился, а под когда-то красивыми голубыми глазами легли черные тени, точно после болезни. Из гордости Ольга глядела на Лену молча — ожидала, чтобы она, Лена, поздоровалась первая.
Лена не сказала «здравствуй», но улыбнулась посиневшими губами примирительно и, съежившись, пожаловалась:
— Х-холодно...
Этого было достаточно, Ольге стало жалко подругу. Хотя семью их она осуждала: «Дураки они, эти Боровские. Как дети. Все же дома — и старик, и мать, и братья. И ничего не умеют сделать, чтобы не голодать».
— Драника хочешь? — неожиданно для себя спросила Ольга.
— Хочу, — просто ответила Лена.
Откусывала она маленькими кусочками, согревая теплым драником руки и смакуя его, как самое дорогое лакомство. Глаза ее, словно потухшие, застывшие, бесцветные, сразу ожили, и в них засветилась прежняя голубизна. Ольга тоже оттаяла, радуясь, что школьная подруга после долгой ссоры пришла к ней первая.
— Дать еще драник?
— Если не жалко.
— Тебе не жалею.
— Не боишься, что сама останешься без картошки?
— Не боюсь.
— Запасливая ты.
— Да уж ворон не ловила. — -Это был явный упрек им, Боровским, но то ли Лена не поняла, то ли решила не обращать внимания, или, может, голод привел к мысли, что жить нужно иначе. Во всяком случае, Ольге все больше нравилось, что Лена теперь такая кроткая, покорная, без гонора своего комсомольского, который она часто проявляла и в школе, и работая в типографии, и особенно в начале войны.
— Домой не собираешься? — спросила Лена, доев вторую пару драников уже торопливо, не то, что первую.
Ольга догадалась, что Лена хочет что-то сказать, о чем тут на рынке, говорить не отваживается.
— А правда, какая торговля в такой холод! — И, удивив соседок, поставила завернутую в одеяло кастрюлю в корзину, вскинула ее на плечо. Лене сунула клеенчатую сумку с самогонкой и свеклой.
Друтька, которому не удалось больше ни у кого поживиться, увидев, что Ольга уходит, разочарованно раскрыл рот и поплелся следом.
Может, потому, что увидели за собой полицая, хотя и на значительном расстоянии, или потому, что грязь за день оттаяла и нужно было идти гуськом, след в след, наступая на одни и те же кирпичи и кладки, чтобы не попасть в лужи, они долго шли молча. Когда вышли на свою, более сухую, песчаную улицу, пошли рядом, потом обернулись: полицай отстал, у него еще были остатки совести, чтобы не идти за вторым стаканом самогонки в дом.
Ольга спросила:
— Что ты делаешь, Лена?
— Работаю.
— Где?
— В типографии.
— В немецкой? — очень удивилась Ольга.
— Нужно же как-то жить.
— Вот это правда! — чуть ли не крикнула от радости Ольга. — Нужно как-то жить. А ты меня упрекала.
Лена смолчала. Потом неожиданно попросила:
— Слушай, забери одного человека из лагеря в Дроздах.
— Как же я заберу его?
— Как мужа. Женщины забирают мужей...
Ольга знала: некоторые минчанки и жительницы пригородных деревень выкупили кто своих мужей, если им посчастливилось очутиться тут, близко от дома, кто чужих. Ольга тоже ходила в Дрозды, в Слепянку, ездила в Борисов — искала своего Адама. За хороший выкуп немцы отдают пленных красноармейцев, только комиссаров не отдают.
— У меня есть муж. Что скажут соседи?
— Ты только выкупи его да выведи из лагеря, а там уже не твоя забота.
— Ага, чтобы охрана подстрелила? Было ведь уже, говорят, такое, что начали стрелять в баб. Положишь голову неизвестно за кого.
Лена остановилась, схватила Ольгу за лацканы пальто, глаза ее горели, щеки болезненно румянились.
— Ольга, это очень нужный человек.
— Кому нужный? Тебе? Так ты и забирай.
— Народу... народу нужный, — странно, как бы захлебываясь, прошептала Лена.
— О милая моя! — засмеялась Ольга. — Что мне думать о народе! Народ обо мне не думает.
Лена рывком притянула ее к себе и горячо зашептала в лицо:
— Олька! Нельзя так... Нельзя... не думать о народе. Когда-нибудь у нас спросят... дети наши спросят... что мы сделали, чтобы освободиться от нечисти этой... Ты хочешь, чтобы твоя Света выросла в рабстве? И вырастет ли вообще!.. Ты еще не узнала, что такое фашизм!
— Если я буду жива, то вырастет и моя дочь. А если ты меня втянешь в партизаны и меня повесят, как тех, в сквере, то о ребенке моем никто не подумает. Никто!
— Я тебя не втягиваю в партизаны. Я тебя прошу спасти человека.
— На хрена мне твой человек!
— Эх, Ольга, Ольга! — легонько отпихнув Ольгу, с печалью и разочарованием сказала Лена, повернулась и побежала с середины улицы ближе к заборам, будто испугалась или искала убежища от чужих глаз.
«Ну и пошла ты...» — в первый момент хотелось крикнуть Ольге и добавить базарное слово. Но Лена уходила медленно, маленькая, сгорбленная, как старушка, в старомодном платке. И Ольге вдруг стало жаль ее. И себя. И еще о дружбе с Леной пожалела, почувствовала, что ведь так разойдутся они навсегда, на всю жизнь врагами станут. А врагов хватает чужих,
Но не только это остановило. Было много другого. Поднялась целая буря чувств, самых противоречивых. Целый день потом, хозяйничая в доме, она старалась разобраться в самой себе... Действительно, разве пришлые захватчики в зеленых и черных мундирах друзья ей? Зачем же еще и своим становиться врагами? Хватит и этой гадости — полицаев, они будто звери. Не к полицаям же ей, Ольге, тянуться, хотя и вынуждена иногда угощать их. А к кому, к кому тянуться? К таким, как Лена? Но очень уж похоже на то, что эта одержимая комсомолка связана с партизанами, которые действуют тут, в городе, о которых шепчутся люди, а немцы вывешивают приказы, грозят всем, кто их поддержит, смертью, и уже повесили несколько человек в сквере около Дома Красной Армии, виноватых или невиновных — неизвестно, может, просто для устрашения. Нет, с Леной ей не по пути. Но вместе с тем люди, такие, как вся семья Боровских, которые живут в голоде и холоде, но не склоняют головы перед врагами, впервые как-то совсем иначе, не по-обывательски, заинтересовали Ольгу, более того — она почувствовала к ним уважение, и от этого самой сделалось страшно. Если о них с уважением думать, то и полюбить их можно, восхищаться ими и пойти за ними, на смерть пойти. Лучше было поссориться с Леной, пусть бы немного поскребли кошки на душе, но зато потом она жила бы спокойно, не признавая никаких Боровских, и ничего бы не боялась. В конце концов, и при немцах жить можно, если не быть дураком, торговле даже больший простор, чем при Советах. Можно свою лавчонку иметь, о чем, между прочим, она мечтала, ради чего копила марки: не нужно будет тогда дрожать на рынке от холода и страха, сиди себе в тепле, отмеривай и отвешивай товар, на который получишь разрешение, а к тебе с уважением будут: «Пани Леновичиха...»