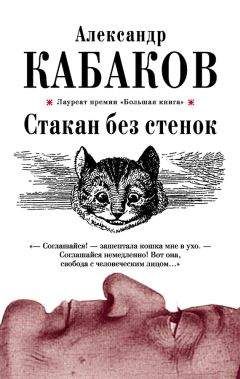Александр Серафимович - Том 4. Скитания. На заводе. Очерки. Статьи
Никак не подыму руку к звонку. Я знаю, за этими светящимися окнами в больших, уютных, тепло натопленных комнатах сегодня все, что было лучшего и знаменитого в России. Но главное — Горький.
Не подыму руку — страшно после провинции. И вдруг неожиданно для самого себя позвонил, и в ту же секунду остро прохватила мысль: «А не удрать ли?.. Метнуться за угол, только и видали, — и никто не узнает». Но было поздно: дверь отворилась. Вошел, разделся.
В длинной столовой за громадным столом сидело человек восемьдесят, все знаменитости, и никому из них не было дела до меня, никто не повернул головы. А я уж никого не различал, как в тумане. Андреев ласково меня усаживал. Застольный гул и говор колыхался из конца в конец. В отдаленном конце стола поднялся широкоплечий, высокий, с длинными, откинутыми назад волосами, с открытым, смело глядящим лицом. Раздвигая стулья и людей, он подошел ко мне, взял за руку, сжал так, что у меня пальцы склеились, с славной улыбкой тряхнул и коротко:
— Горький…
Потом пошел назад, все так же раздвигая стулья. Гул, смех, говор сразу смолкли. Все головы ласково повернулись ко мне, заулыбались, закивали. Соседи задвигались, давая мне попросторнее сесть. Внимательно спрашивают, какого мне налить вина, как мне нравится Москва, как поживают мои детки, супруга. Одни накладывают мне на тарелку икры, лососины, семги, устриц, к которым я не знал, как приступиться. А с другой, стороны льют мне в бокал вина, шампанское… Ух ты?! Вспотел… Сердце ласково билось, и я думал: «Так вот он, Горький».
Это первое впечатление от Горького потянулось через жизнь. Уже оба мы стариками стали, уже фигуры погнулись, а перед глазами немеркнуще: широкоплечий, в серой перехваченной блузе, и лицо гордо и смело закинуто, он чувствовал в себе рвавшуюся силу и хотел ее понести трудящемуся человечеству на счастье, на радость…
…Мне позвонили. Подхожу к телефону. Голос Горького. По-нижегородски нажимает на «о»:
— Товарищ Серафимович? Здравствуйте, Заходите ко мне, потолкуем насчет издания ваших рассказов.
Только я вошел в его кабинет, он — большими шагами мне навстречу, крепко пожал руку, с хорошей, влекущей улыбкой, и, все так же нажимая на «о», с места к делу:
— Вот задумал я дело, и большое дело. Надо собрать писателей. У нас отличные писатели есть, а все врозь. Вы сколько за лист получаете?
— Шестьдесят рублей.
Он сердито прошагал из угла в угол. Сел.
— Вы у нас будете получать триста. Это — для начала, Чехову, Андрееву мы платим по восемьсот. Писатель должен напряженно думать о своей вещи, а не о том, как он завтра достанет молока ребятишкам.
У меня все пошло кругом: неужели, неужели же проголодь, нищета, мучительное выколачивание строчек, — все это позади? И я могу писать спокойно, целиком отдаться творческой работе? И не будут надо мной с величайшим презрением издеваться толстосумы, в руках которых были издательства?
— Только… — Горький поднялся во весь свой рост, поднял палец, — …только, чтобы писатель давал лучшее, что может дать. Каждый писатель может дать лучшее, если честный, у которого в душе лежат слитки… Ну, у одного побольше, у другого поменьше, не в этом дело. Золотая она, хоть крупинка, а золотая, — главное, честно относиться к своей работе. Ведь читать будут сотни тысяч, а дальше и миллионы. Революция созревает, рабочий класс все более и более революционизируется, и в этой атмосфере даже легальная (и потому охватывающая широкие массы), но честная литература сыграет большую мобилизующую роль. Рабочие умеют читать между строк, и всякая честная мысль найдет у рабочего отклик.
Он вдруг выбросил длинные и сильные руки вперед, вверх, вниз, два раза присел и вытянул ногу. Я смотрел во все глаза. Он улыбнулся, потрогал мои мышцы.
— Мускулы у вас ни к черту… Гимнастикой не занимаетесь? Ну, конечно, не до гимнастики! А надо. Я вот сегодня семь часов из-за стола не вылезал. Понимаете, рукописей горы. Ведь надо взвесить каждое слово, каждую строчку. Сотни тысяч читать-то будут!
В этот вечер я родился писателем.
Зеленых книжечек сборников «Знание» все ждали с величайшим нетерпением. Только выйдут, их моментально расхватывают в магазинах.
Горьковские сборники имели громадное значение. Они стали выходить, когда революционные настроения закипали все больше и больше. Сборники «Знание» помогали подыматься этим настроениям. Помещаемые в них художественные произведения, конечно, не были революционными в прямом значении этого слова, да это и невозможно было при тогдашней цензуре. Но таково удивительное действие внутренне честной, правдивой художественной вещи, что она, не призывая прямо к революции, прокладывает к ней широкую дорогу в сердцах, в чувствах людей.
Горький сумел сгруппировать вокруг издательства «Знание» все лучшее, что было среди писателей. Все же гнилое гнал беспощадно и яро.
Горький был не только гениальный, незабываемый пролетарский писатель, но и удивительный организатор. Две эти черты особенно ярко его характеризуют. Кипучая энергия всегда билась в его груди и сказывалась в его соприкосновении со всем окружающим. Неуемная жажда, неуемная энергия, бившаяся в груди Алексея Максимовича, прорывалась во всем — во встречах с людьми, в характеристиках людей, в его разборе произведений молодых писателей, в его указаниях им, как писать, как освещать явления быта, общественности, всего окружающего.
…Я принес ему для сборника «Знание» мой рассказ «Маленький шахтер». Это — рассказ о мальчугане, сыне шахтера. Мальчика спустили в шахты откачивать ручной помпой воду. Он работает в темноте один и медленно, унывно считает: раз, два… тоненьким голоском. Все шахтеры наверху — праздник. Алексею Максимовичу рассказ понравился.
— Хорошо! — сказал он, нажимая на «о». Да вдруг поднялся во весь свой рост, протянул руку и проговорил взволнованно:
— Вы не забывайте: шахтеры — ведь это же рабочие! Они ведь создают все, что кругом. У вас они только бедненькие, забитые, — жалко их… А ведь это не вся правда. Шахты-то кто попрорыл? Кто взрывал каменные неприступные пласты? От воды-то захлебываются, — кто откачивал? Вот у вас этот мальчонок, — ну, жалко его, конечно. Но вырастет, он же настоящий, потомственный шахтер будет! Перед ним земля-то, недра раздвигаться будут. Это вот, знаете, забываем мы все… А надо помнить. А раз помнить, значит, и изображать.
Я шел от него, оглушенный. Мимо катился шумный Невский, и фонари заливали его, и не было голубых теней.
«Как же это я мог пропустить такую громадину? — говорил я в сотый раз сам себе. — Ведь рабочий, ведь он же — творец. Ведь, действительно, нельзя же его изображать только бедненьким, забитым, темным. Ведь это же мировая сила, которая в конце концов свернет шею мировой буржуазии».
И сколько мне ни приходилось потом наблюдать Горького, когда он помогал молодым начинающим писателям, всегда Горький поправлял и направлял не только в области литературной техники, но еще больше в области изображения той силы, которая заложена в массах.
В боях фронт всегда выдвигает впереди себя отдельные части. На них сыпятся злые удары врагов.
Нет битвы более ожесточенной, более яростной, чем классовая схватка. И вот в этой колоссальной, теперь уже переходящей в революционно-мировую, схватке есть свои выдвинутые посты.
Одну из таких выдвинутых далеко вперед позиций занимает Максим Горький.
Мы здесь, в Советском Союзе, пишем боевые статьи, очерки, стихотворения, рассказы, — и это имеет громадную социальную боевую значимость. Это — неохватимое по своему значению оружие, и разящее и строящее: Но мы здесь бьемся плечо в плечо в товарищеском строе: Мы дышим дружеской атмосферой взаимной поддержки, уважения, любви. Мы все здесь среди своих, социально родных И близких.
Максим Горький — один. Он страшно выдвинут, своей позицией в глубь вражеского стана. Он — в злобной вражеской атмосфере.
Конечно, он окружен не только ненасытной враждой буржуазии, но и любовью, сердечностью западноевропейского пролетариата, мирового пролетариата.
Только ведь пролетариат там пока плохо вооружен. Его печать скудна и большей частью вдавлена в подполье. Его чувства и мысли трудно пробиваются вовне. А рев подлых глоток буржуазной печати сплошь затягивает гнилым туманом, все извращая.
И вот тут-то выделяющаяся из желтого тумана фигура Максима Горького отовсюду видна. И его голос, голос правды о строящемся социализме в стране пролетарской диктатуры, звучит до самых далеких краев. И гнилостные волны буржуазной лжи и клеветы не; в состоянии подавить этот ясный, четкий, честный голос, и пролетариат мира слышит его.
Сегодня он возвращается на родину.
Мы встречаем не только крупнейшего нашего писателя, но и бойца на одной из самых выдвинутых позиций в толщу врага.