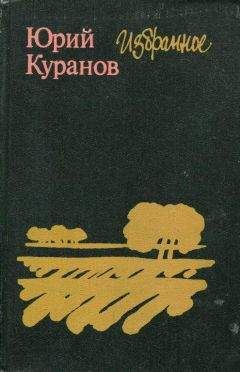Юрий Казаков - Избранное: Рассказы; Северный дневник
Скорей, скорей пройти это гиблое место! И души наши напрягаются, ноги спешат, глухо стукают по корням, еле прикрытым мхом. И когда мы покидаем лес и выходим на прежнюю моховую равнину, нам делается немного легче.
Попадается много вереска — островками растет он, плотен и жесток, и цветет сиреневым дымом. Кочки покрыты красным, желтым и синим — везде морошка, черника и голубика, и мы постепенно разбредаемся, нагнувшись, забываем даже, куда и зачем идем, рвем морошку, сок которой янтарен и напоминает по вкусу слегка прокисший сок абрикосов.
Потом сходимся и снова бредем вперед, к дымчатому горизонту, изнемогая от жары, странной в тундре. Показываются крикливые розовоперстые чайки, зло кружат над нами, отлетая к озеру и возвращаясь с новой яростью. Мы идем по линии их полета и выходим на берег.
Проводники наши, шурша кустами, скрываются, идут искать карбас, который должен где-то здесь быть. Через полчаса мы слышим голоса, скрип весел, показывается карбас и пристает.
— Глубоки ли у вас озера? — спрашивал я как-то в деревне.
— А мы их, прости за выражение, не мерили! — отвечали мне.
И вот мы плывем по немереному озеру. День понемногу гаснет, по небу, над дальними угорьями, разливается красноватая заря. Мы удаляемся от нее, пересекая озеро, и, когда оглядываемся, видим небо чернильного цвета над еле возвышающимся далеким плоским берегом. А когда подплываем к нему, видим, что он каменный. И камни его как бы уложены человеком — один на один, в длинный ряд. Чем ближе мы к нему, тем он страшнее, а под ним чернота, и вода кругом черная. На берегу растет кустарник, но, приглядевшись, видим мы не кустарник, видим опять березовый лес, и белые обнаженные корни берез висят над водой, как щупальца спрутов.
Проводники наши приглядываются, совещаются, и мы пристаем среди кустов. Прямо от берега уходит едва заметная долинка. Отсюда нужно тащить карбас по узкому каменному перешейку... Подкладываем катки и тащим, упираясь напряженными ногами в мох, под которым слышен камень. А когда вытаскиваем карбас к другому озеру, замечаем на берегу рюжу.
— Ненецкая рюжа, — говорит один из ребят-проводников.
— Ихняя, — подтверждает другой.
В этой рюже видится мне внезапно призрак деятельности, сосредоточенной в древнейших занятиях человека — в скотоводстве, в рыболовстве, в охоте. И эта тундра, озера, прибрежные камни, дальние угорья, покрытые кое-где лесом, сразу перестают казаться мне дикими. На самом деле они полны присутствием человека, присутствием тихим, малозаметным, но постоянным.
Не знаю отчего, но меня охватывает вдруг острый приступ застарелой тоски — тоски по жизни в лесу, по грубой, изначальной работе, по охоте.
Давно-давно уже приходит ко мне иногда, является и молча стоит и смущает картина моря или реки и дом на берегу, дом в ущелье, сложенный из хороших бревен, дом с печкой и коричневыми, слегка прокопченными дымом балками. И моя жизнь в этом доме и на берегу моря, и моя работа — ловить ли семгу, рубить ли лес, сплавлять ли его по реке... Разве это не выше моих рассказов или разве помешало бы это им? Наверное, это сделало бы их крепче и достоверней. Потому что мужчина должен узнать пот и соль работы, он должен сам срубить или, наоборот, посадить дерево, или поймать рыбу, чтобы показать людям плоды своего труда, — вещественные и такие необходимые, гораздо необходимей всех рассказов!
Мы спускаем карбас, забираемся в него, булькая и всплескивая сапогами по воде, и между камней, выстающих из желтоватой глубины, потихоньку отходим от берега. Огибая каменистый мыс, мы выходим в озеро, и нам постепенно открывается его громадная пустынная протяженность.
— Вон чумы!
Мы вздрагиваем, поворачиваемся, напрягаем глаза и видим на далеком темном берегу три чума, три невысоких конуса, чуть светлее по тону, чем берег.
Время уже за десять, солнце село, светло. Огромное озеро, стоящее чуть не вровень с низкими берегами, пустынно. Пустынны и далекие берега. Но на одном из них, на самом дальнем и темном, показались и не скрываются, не пропадают три чума — вместилище загадочной для нас жизни, которую не увидишь нигде, кроме как здесь.
Не сон ли это? Потому что тихо кругом и сумеречно, и вода омертвела, и берега стоят — вон зубчики леса! — так же, как стояли во времена скрытников. И на берега эти смотрели, может быть, плывя в такой час и предчувствуя конец пути, древние бегуны, ищущие землю обетованную и, наверное, шапки снимали и крестились, радостно думая, что дальше уж незачем идти, да и некуда...
Мельком взглядываю я на своих спутников — и у них странные лица, и они смущены и взволнованы. Даже проводники наши и те как бы ждут чего-то.
— А-а-а-а... — проносится вдруг над озером крик. Он так слаб и невнятен, что сразу ощущается безмерность расстояний в этой пустыне. Мы поднимаем весла и слушаем, не повторится ли крик, не поймем ли мы чего-нибудь. Каплет с весел вода. Иногда вздрогнет весло в руке, и тогда скрипнет колышек. Поднесет кто-нибудь бинокль к глазам, и прошуршит рукав куртки.
— Аркадий Вылко это! — говорят наконец проводники.
— Чего он?
— Увидал нас, зовет, чтоб мимо не проходили.
Опять гребем, журчит под носом, поплескивает под веслами вода. По носу карбаса сумеречное восточное небо, чумы все ближе, и, когда в перерывах между гребками оглядываешься, замечаешь между чумами фигурки людей. Они вырастают внезапно и опять пропадают, будто люди лежали, а потом поднялись и снова легли. И горят два невидимых нам костерка, только дымки тонкими струйками поднимаются вверх — сперва вертикально, потом сваливаются. И еще дымок пожиже, попрозрачнее из среднего чума.
Карбас наш с шорохом цепляет за дно, мы выскакиваем в воду, тянем его на песчаный берег, истоптанный копытами оленей. На нас смотрят издали, как мы выносим вещи и разминаемся. Сбегаются, окружают нас и, поворчав немного, начинают вилять и ласкаться собаки. Пушистые остроухие собаки — старые и совсем щенята еще с розовыми носами. Так, окруженные собаками, мимо погребков, вырытых в обрыве и обложенных торфом, поднимаемся мы к чумам, к ненцам, которые сидят и чинят нарты. Пахнет дымом костров и рыбой.
— Здравствуйте!
— Нгань дорово! Здравствуйте!
Мы присаживаемся около ненцев, кто на нарты, кто просто на корточки. Вокруг нас садятся и ложатся собаки.
Вот чумы и вот ненцы. И мы сидим на нартах, и дым костров набегает на нас. Теперь только смотреть, ведь завтра мы уедем и, кто знает, увидим ли еще все это. И мы смотрим, потому что светло и все видно.
Аркадий Вылко непохож на ненца. Длинно и смугло-матово у него лицо, широки глаза, длинны и мохнаты опущенные ресницы. Нос его высок, с горбинкой, и редки белесые сквозящие усы и борода. В своем головном уборе, напоминающем красноармейский шлем, только гладкий, с отверстием для лица и надетом от комаров, похож он на бедуина, на индейца. И сидит, чуть улыбаясь, вольно и покойно, и покуривает, смотря в землю, и молчит, будто знает что-то возвышающее его надо всеми.
А Петр Вылко — брат его — крепко сбит, низок и слегка кривоног. Стремителен и хищен он в движениях, резок и горяч и весь будто налит черной огненной кровью, опален и прокопчен. Голос его громок, и слышны в нем звериные нотки, когда кричит он вдруг на собаку:
— Гин! (Пошла прочь!)
И втягивает потом с давящимся звуком воздух.
Сидят возле нарт или встают за чем-нибудь еще двое, столь же резко очерченные, такие отдельные и не похожие ни на кого в мире: Алексей Назаров и Николай Горбунов. Один — пожилой, с поднятыми вверх внешними углами глаз, с кустистой бородкой, разговорчивый, смеющийся и любопытный. Другой молод и крепко попирает землю, налит чугунной силой, белозуб и, наверное, особенно лаком, особенно вкусно пахнет — комары облепляют его пуще всех, но он не замечает их.
Потихоньку отхожу я от нарт и оглядываюсь. Вон озеро, теперь лиловатое. У берега застыл черным кривым клинком наш карбас, а рядом — карбас ненцев. Собаки провожают меня. Щенки, если на них посмотреть пристально, сразу ложатся на спину, и пузики у них цвета неспелой клюквы.
Вон чумы, составленные из длинных кольев и обтянутые, обшитые вываренной берестой. Вокруг чумов нарты — длинные и легкие, с полозьями, будто покрытыми лаком снизу, и некоторые уже упакованы и обвязаны веревками: ненцы готовятся к перекочевке. Возле нарт, раздувая жарким дыханием пыль, лежат больные олени. Они все темно-коричневого цвета, беззащитные, с длинными печальными глазами и бархатными рогами.
Между нарт валяются еще во множестве ржавые капканы. Их выварят зимой в хвойном настое и будут закапывать в пушистый снег, и огненная, зеленоглазая лисица, насмерть защелкнутая кривыми скобами, будет прыгать кругом, поднимая хвостом снежную колючую пыль.
Ребятишки, как привидения, вырастают из-за чумов, жадно глядят на меня — сначала один, постарше, тут же около него появляется другой, поменьше, потом еще и еще, и глаза их одинаково горят любопытством, а потом к ним на четвереньках прибавляется совсем уже крошечное существо и тоже смотрит туманно.

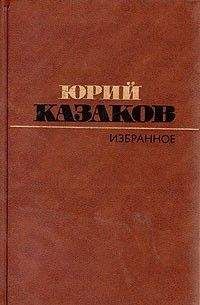
![Генрих Бёлль - Избранное [ Ирландский дневник; Бильярд в половине десятого; Глазами клоуна; Потерянная честь Катарины Блюм.Рассказы]](/uploads/posts/books/121756/121756.jpg)