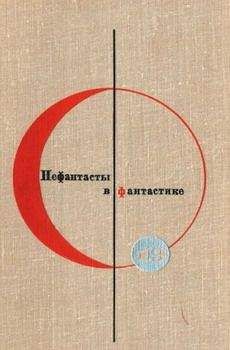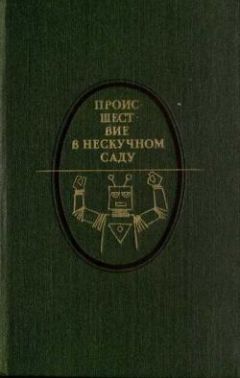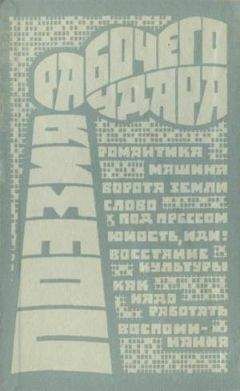Всеволод Иванов - Пасмурный лист (сборник)
По приближающемуся топоту определили парни – надо бежать.
И по опрятным весенним улицам Варшавы, словно только что выпущенным из кондитерской, бежали опрятно одетые, даже прекрасно одетые молодые люди, женщина в парчовом платье и почему-то ксендз с окровавленной макушкой.
Люди останавливались и говорили:
– Наверное, немецкую фильму снимают, иначе кто же, кроме немцев, загримирует ксендза под ксендза Винда.
Парни волокут Фокина, топот сзади смолкает, и молочники не останавливаются и не глядят им вслед.
На перекрестке парни чистят костюмы, портной выдергивает нитки, которые называются «живульками», жмет им руки, и только они заворачивают за угол – уже слышны лобызанья и восклицанья. Они нашли радость.
Портной не интересуется знать, большая это радость или маленькая, он идет прочь из города.
У дворца гетмана Дениско стоит еще мальчуган с конфетками, Фокин бросает его ящик о панель и говорит:
– Пойдем со мной, я тебе штаны сошью, нельзя же в таких штанах ходить.
– Зачем мне ваши штаны, вот если бы вы были пан Око.
– А что?
– Нашелся из России такой портной – пан Око; так шьет: кому сошьет – тому и счастье. Я эту коробку, которую вы разбили, давно хотел грохнуть.
– Тебя как зовут-то?
– А зовут меня, пан, Оська.
Тем временем шли они мимо огородов, остановился портной прикурить и слышит: тоже говорят огородники о нужде и о чудесном портном, товарище Око.
– А куда мы, пан, направимся и как вас зовут? – спросил Оська.
– А пойдем мы, скорей всего, в Германию, так как понял я по многим причинам, не Польша это, а Польская губерния; я же хочу спокойных фасонов гражданского житья, и зовут меня, пан Оська, портным Фокиным.
– Очень рад, – наивежливейше ответил Оська, – я еще в предыдущий разговор у дворца подумал, что наверно-то вы и есть самый портной Око. Очень уж вы на жулика походите!
5. Глава в духе, соответствующем стране, в которой она обитаетТеперь, читатель, как я упоминал раньше, весна, – приятно ходить рука об руку, и вот дайте мне край вашего рукава, я буду прикасаться очень нежно, а возможно, и совсем не прикоснусь, – и мы с вами вслед за Фокиным пойдем по цветущим полям Германии. Многие из нас не читали Версальского договора, и я тоже не читал, и портной Фокин не читал, так что изрядно будет и нам и ему в диковинку.
Не татары и не скифы гонят стада с тучнейших пастбищ, вбивают их в вагоны, и вагоны с воем (вой животных и вой железа) мчатся во Францию; день и ночь сыплется в мешки или просто в ящики пшеница и ячмень. Щупленький секретарь дает радио: ускорить репарации, – и умирают от голода дети, девушка ложится гнить в землю, и старинные смешные колокола в городках под острыми красными черепичными крышами успевают еще отбивать отходную, пока их не увезли.
Не умеем мы говорить жалобно и в революцию научились проходить мимо многого!
Мимо бы надо проходить Фокину, мимо, но курносый и веселый портной (в сумке у него объемистая краюха хлеба) останавливается, и мы останавливаемся с ним, потому что ни я, ни читатель и ни портной не знаем немецкого языка, и один у нас переводчик – конопатый Оська, да и тот плохой переводчик. Уговоримся же все говорить по-русски и выкинем скверный обычай, введенный «серапионами», имитировать речь областную и заграничную, – у нас и так много горечей, и надо события понимать в ясности, не останавливаясь на пустяках, вроде точно переданных разговоров или, хуже того, сентенций в стиле Чуковского. Вот о портном Фокине идет слух! Вы думаете – сами грузятся стада в вагоны и быки исполняют обязанности машинистов. Увы, этого еще пока нет: гонят их погонщики, один останавливается и говорит:
– Вместо быков-то – пушки бы, чтоб скатить их под Парижем и развалить в один чишек собачье гнездо. Сошьет мне такое платье Окофф?
Остальные погонщики и машинист, до странности похожий на быка, кивают ему сочувственно.
А в элеваторе! Нет, не могу рассказать этой истории, хотя, признаюсь, очень хочется. Закончилась она тем, что один рабочий со вздохом сказал:
– Для исполнения такого желанья даже Окофф не сошьет платья.
Сел незамедлительно в тюрьму.
Вот и бредет Фокин от села к селу, от города к городу, направляясь к самому Берлину.
Пока шагает – весело, остановится – тоска!
Однажды (хотя в Германии краны через пять шагов) захотелось ему напиться в доме. Или слава так балует, что приятно обращаться с просьбами к незнакомым людям. Стоит у дверей девушка, и спрашивает ее через Оську Фокин.
– Разрешите, – говорит, – гражданка, напиться – утолить жажду?…
Его чаще всего через Оську узнавали.
– Что же, можно, – отвечает та и подносит ему в кружке порцию молока, – только скажите вы мне, правда ли, что русский народ послов вроде вас по всей земле, и даже во Францию, послал?
Спрашивает незамедлительно Фокин:
– А чем вы страдаете и что вам нужно?
– А страдаю тем, что если послали бы такого посла, как вы, во Францию, то лучше бы вам, герр Окофф, сюда не являться. Возможно так, что я вас убью или другая… Все наше молоко Франция выпивает.
Вздохнул привычным вздохом Фокин.
6. История переводчика Оськи и его собакЖизнь моя, дяденька Фока, густая, будто каша.
Тятенька мой, Евграф Тимофеевич Зипа, был разбойник и браконьер: самых любимых зайцев у барина бил, а матушка у моего тятьки, по причине службы, у барина любовницей была. Мне тятька в пьяном виде сознавался.
По случаю такой игры попал я очень рано в подчиненные. Чтоб не стрелял я дичи и не имел несчастную тятькину судьбу, приходил каждый полдень и бил меня тятька, воспитывая хороший дух.
Я теперь очень точно могу время полдня определять.
Надоели мне его побои, и стал я смирнее перед барином, по прозвищу Бороздо, и чудно так получалось, что чем больше я смирнел, тем сильнее бил меня батя. Дальше по смирению вышла бы мне смерть, потому что с каждой нашей встречей кулак его прибавлялся еще на пять фунтов. Тогда, по случаю необыкновенной моей смирности, определил меня барин ухаживать за собаками.
Избил тогда меня смертно отец; еще бы такой один побой – и не знать бы мне немецкого языка, но тут убухали его в тюрьму за расстрел любимого баринова зайца.
Били меня за людей, а чтоб хорошо к собакам относиться – такого уговора не было, однако очень я полюбил собак, и больше всего Фингала, примесь фаундленда с догом.
Зверь тебе ростом с корову, а смирный – только перед Пасхой и лаял. Перед Пасхой все постились, и его еще меньше, чем людей, кормили.
Так он все ждал и лаял как раз в самый момент пасхальной заутрени. Тявкнет, и в это же самое время колокол. Сбегались все на тявканье это смотреть и радостно говорили: «Скоро, значит, и скоту праздник».
Вырастил я его, и получилась большая любовь по прозванию Фингал.
Тятька у меня, очень довольный, сидел в тюрьме, мамка спала часто с барином, бить меня было некому, и смиренность моя постепенно уходила. Барин Бороздо говорил мне – настоящий я собачник и что назначит он мне совсем необыкновенное жалованье.
А я себя чувствовал очень хитрым и был сильно этим доволен: так же, как батя тюрьмой, – очень он себя не любил за разбойничество и браконьерство. Ему все церковным старостой хотелось быть.
Подарил мне барин Бороздо бархатные штаны и куртку с галунами и назвал «доезжачим».
Тут я от радости на долгое время забыл и полдень определять.
Стали меня кормить хорошо; в светлых комнатах начал появляться и хожу постоянно за барином. Впереди барин, собака Фингал, а позади я – тоже в ошейнике.
Полюбил мой барин Бороздо барыню, по прозвищу Марина. Цветы ей ношу, коробки разные, а она мне – гривенники.
Собачонка у ней постоянно под ногами таскалась, вся в курчавой растительности, зовут Аврелка. Собачонку ту целовала больше, чем барина.
Говорит мне барин Бороздо:
– Отнеси ей опять цветы, Оська.
А дело было перед Пасхой; пес мой Фингал тоскует, жрать хочет, а я был очень почтительный к людям, пса жалею, но не кормлю. Ноет тот, я ему и предложил:
– Пойдем со мной, Фингал, для развлечения.
Я иду с цветами, а у пса голова больше цветочной корзины, и гордости у него больше, чем у цветов.
Заходим в дом, прислуги нет, мы прямо в гостиную. Фингал хоть никогда в гостиной не был, однако идет спокойно и только слегка аппетитно нюхтит. Кричит мне барыня из спальни:
– Это ты, Оська, с цветами? Подожди немного, я оденусь и выйду.
А Фингал у меня привык: скажешь «куш», он лягет и может до смерти залежаться. Я ему только хотел было сказать такое слово, чтоб он у порога успокоился, и он на меня так посмотрел соответственно, как вдруг откуда-то там из-под дивана, из-под тумбочек, с привизгом, с драньем горла, выскакивает гривенничная собачонка Аврелка и под морду Фингала – шасть!