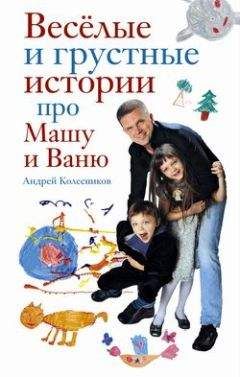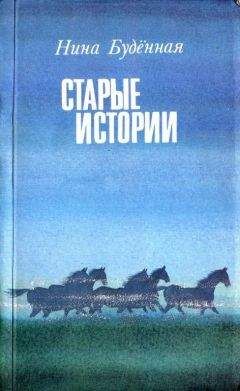Акакий Гецадзе - Весёлые и грустные истории из жизни Карамана Кантеладзе
— А тонка!
— Энергична…
— Какая добрая душа!..
Я заметил, что всё это говорилось совершенно искренне, и тогда я всерьёз стал подумывать о свадьбе. Теперь я начал смотреть на собственную жену глазами посторонних людей. А однажды дошло до того, что я даже рассердился на самого себя: «Если, — думаю, — она была так хороша собой, так отчего я не замечал её?»
Адам Киквидзе же, тот прямо выпалил мне в лицо:
— Как же это такого ангела отдали бездельнику?
— Вот потому-то я и похитил её, что не хотели отдавать.
Однако вслед за Адамом многие стали это повторять. И тут уж я не на шутку встревожился: неужто, думаю, я такой невидный и Пасико лучше меня? — Но я погасил эту беспокойную мысль, хотя она продолжала терзать меня некоторое время. Кончилось тем, что я, сохранив невозмутимость, принял как должное, что Пасико пошла именно за меня. И я даже позабыл о своём желании похитить Цицино.
С Аретой я, конечно, помирился: испугался как бы он не разгласил, что я хотел совсем другую девушку. Раз люди внушили мне мысль о достоинствах Пасико, то я уже решил их не разочаровывать. Но всё же моё предположение оказалось верным, и я расскажу вам, что на самом деле произошло той чёрной ночью.
Оман и Арета вместе поужинали и даже, оказывается, выпили за меня: дай бог, мол, ему вернуться домой благополучно. Когда Арета передал мне девушку, Оман стоял за забором. Оман выстрелил из ружья, потом выстрелил Арета, но они стреляли не друг в дружку, а в воздух, — послали туда на радостях по пуле, передохнули, а потом вместе устремились по моим следам, опасаясь, чтобы ничего плохого с нами не случилось в дороге. И так они, оказывается, ехали за нами до самого шатра.
Что? Откуда я знаю? — Выдала тайну жена. Да, Пасико была посвящена во все подробности этого дела. Ну, а после, раз всё благополучно разрешилось, могло ли это не слететь с языка женщины?! — Так она и открылась мне во всём: будь что будет! А что, собственно, должно быть?
Ведь теперь я сам был больше всех заинтересован в том, чтобы эта тайна не стала гласной.
Раз вся деревня поздравляет меня, я стал уже испытывать угрызения совести, да к тому ж и слова Кечо возымели своё действие — и стал готовиться к свадьбе. Один раз в жизни празднует человек свою свадьбу, и уж, конечно, нарушить этот обычай не хотелось. Что могли подумать люди? Нечего и говорить о том, что я был бы опозорен до третьего колена; злые языки не оставили бы в покое и моих благородных родителей. Ведь сколько народу кругом точило зубы. Наедимся, мол, вдоволь на свадьбе! Не мог же я оставить их всех не солоно хлебавши! Да к тому же, можно ли было снести упрёки заправских кутил? Ведь совесть бы меня совсем заела.
Вряд ли найдётся такой человек, который не мечтал бы в глубине души своей стать царём. Таких же, как я, простых смертных, лишь на свадьбах и величают царями, и одна-единственная ночь дана им, чтобы стать обладателями царицы. Так скажите, мог ли я отказаться от этого маленького счастья? В то время у меня было полным полно хлеба и вина. Не испытывал я недостатка и в мясе. Поэтому свадьбу я обставил по всем правилам.
В ту ночь в моём дворе ярко горели факелы. Пасико надела белое платье, голова её была покрыта белой фатой. Я тоже принарядился: надел на себя белую чоху с серебряными газырями. Кечо был у меня посажёным братом.
Будто бы отправляясь в далёкий путь за женой, я вышел во двор, где ждали меня соседские парни. Грянув песню, мы двинулись обратно к дому. Остальные, скрестив клинки, стояли у дверей. Пасико первой переступила правой ногой через порог, а за ней и я. Царо, улыбаясь, встретила нас.
— Чтоб вся ваша жизнь прошла в такой сладости, дети мои! — И расцеловав нас, она сунула нам в рот сахарные леденцы.
Теона же подставила под ноги нам тарелку, и я стукнул её ногой, обутой в мягкий сапожок.
— Куда деть обломки? — спрашивает Кечо.
— В карман свату Арете, немного и себе оставь!
Арета чувствовал себя хозяином.
Кругом галдели весёлые гости.
Во главе стола Лукия посадил Адама Киквидзе. Об этом мы условились заранее: ведь это Адам в своё время пожелал Кечо на свадьбе двойню: его слова сбылись, и я не забыл этого.
Для жениха с невестой приготовили кресло, покрытое ковром.
Мы с Пасико уселись.
Царо вдруг куда-то исчезла, а потом появилась вместе с внуком Бондо и посадила его на колени к невесте:
— Будьте счастливы и умножайтесь, дети мои! Чтоб в вашем доме колыбель никогда не стояла на чердаке и чтоб её не покрыла пыль. Чтоб всё время её качали. Как поднимите оттуда одного ребёночка и пустите во двор, тотчас же кладите туда второго. Дай вам бог девять сыновей и семь дочерей, а то и того больше.
— Столько, сколько у Петре Кивиладзе, чтобы вы не запомнили их имён! — поддержал свою мать Кечо.
— Спасибо, братец! Пусть бог тебе во сто крат больше того даст, что ты хочешь для меня!
— Ну, Карамаша, тебе надо стать более степенным, ты ведь у нас уже женатый человек!
— Этого я не слыхал, чтобы женитьба прибавила человеку ума! Вон у тебя жена и двойня, а ум-то прежний, небось, остался!..
Пожелания матери и сына заставили меня на минуту призадуматься. Я сразу представил себя на месте Петруа Кивиладзе, и наш двор сразу наполнился звонкими голосами малышей, а моё сердце — радостью. Вот видите, кто же стал бы благословлять меня, если бы я не справил свадьбы?!
Грянула песня, но как! Ей-богу, я увидел, что потолок комнаты колыхнулся.
Маленький Бондо некоторое время молча разглядывал людей. Куда это я мол попал? — Потом раскапризничался и заплакал. Он всё время тянулся куда-то, растопырив пальчики на руке.
Кечо дал ему куриную ножку — он её бросил, — дал хачапури — тоже не берёт.
Тут Арета пришёл на помощь:
— Так я ж ему дал леденец, он, наверное, ещё хочет, — вспомнил сват. — А ну-ка, поди ко мне, миленький! — поманил он его.
Кечо поднял ребёнка с невестиных колен и передал Арете. Тот вынул из кармана красный леденец и повертел им перед носом ребёнка. Бондо стал скалить зубы точь-в-точь, как отец. Когда ему приелись леденцы, он вдруг схватил Арету за ус, да так больно дёрнул, что у того на глазах слёзы выступили.
— Ух! Что ты со мной делаешь, пострелёнок?
— Не помогли тебе леденцы, Арета! Взятка может осветить путь в преисподнюю, но ей никогда не смягчить детского сердца. Видишь, ребёнок понял, что ты недостоин усов и хочет лишить тебя их, — съехидничал я.
Мои слова кольнули его куда сильнее, чем дёрганье за ус, однако пришлось ему их проглотить: ведь не стал бы он поднимать шума в самый разгар свадьбы!
— Отхватил себе красавицу, а теперь шутишь? — криво усмехнулся он и, подмигнув Кечо, пропел:
Будь доволен этим тостом:
Тебе розу, мне сирень,
Охохойя, охохойя,
Мравалжамиер!
— Давайте пить! — закричал он.
— Чтоб мы собрались здесь в следующем году на крестинах!
— Аминь! Аминь! Аминь! — пела и гуляла свадьба.
Два дня и две ночи мой погреб и тонэ не знали отдыха. Я тоже утомился выслушивать хвалебные речи. Благими пожеланиями я был сыт по горло, а галдёж и выкрики пьяных стали мне уже невмоготу. — «Эх, легко гулять на чужой свадьбе, ничего не приедается».
— Ну, как, хорошо погуляли? — спросил меня Кечо, когда свадьба кончилась. — Мне кажется, никто не остался недовольным?
— Конечно, я вам всем так благодарен…
— Так-то, мой Караман! Теперь остаётся только тебе привязать во дворе доброго пса, чтоб никто у тебя не отнял похищенную красавицу!
— Ты всё шутишь, а на самом деле золотые твои слова! Что за двор, где петух не кричит и пёс не лает?
На другой же день я завёл себе собаку Куруху.
Все кости, что остались после свадьбы, я дал ей выгрызть. Собака, пока сидела на привязи, была очень спесива, всех облаивала, даже меня и мою жену. Стоило же мне спустить её с цепи, притулилась она сразу и сунула нос под хвост.
Впрочем, что уж говорить о собаке! Иной человек тоже всё ворчит и огрызается: свободы, мол, хочу. А дать свободу, сам становится бездельником, а уж если залает, то и свободу облает.
Теперь в моём дворе уже не стало слышно ни застольных песен, ни собачьего лая. На меня этот покой плохо подействовал, и стал я брюзжать.
Раз никто уже мне не нахваливал жену, с лица её слетела красота, и оно снова стало лошадиным. Сердце моё вновь наполнилось смятением, и стал я в тоске метаться по округе. Теперь очаг, который зажигала Пасико, уже не грел меня, а мчади, испечённый ею, казался мне невкусным.
Но пусть ваши враги пребывают без надежд! Нет беды, которая не оставляет человеку хотя бы капельку веры. Потому, что лишь у засыпанного землёй гроба нет выхода. Живой человек всегда его найдёт, всегда за что-то ухватится.
Я не могу сказать, чтоб мой покойный отец был чистейшей воды мудрецом. Но, бесспорно, был он человеком в высшей степени наблюдательным. Вот, что он сказал мне однажды: