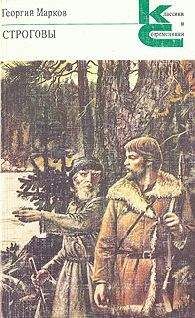Феоктист Березовский - Бабьи тропы
— Сменить! — заревела толпа. — Сменить!
— Мошенник!
— Сменить!..
По ступенькам быстро вбежал на крылечко мельницы Павлушка.
Бледный, трясущийся, он встал рядом с Супониным, обтер рукавом пот со лба и зычно крикнул:
— Постойте!.. Дайте высказать!..
Постепенно галдеж затих.
— Вот, товарищи, — закричал Павлушка, выбрасывая вперед руку с картузом, — волревком будто бы требует сменить меня… Ладно! Сменяйте! Ну только врет Супонин! Как получил я хлебную разверстку из волости, так и записал… Такую и раскладку сделал ревком. Панфил подтвердит это, товарищи… Он здесь… И все скажут за меня…
Из-за спины Супонина прогудел голос Панфила:
— Я подтверждаю!
А из толпы закричали Гуков и Валежников:
— Врет, щенок!
— Врет он, мошенник!
Толпа опять угрожающе загудела.
Павлушка взмахнул картузом. Переждав галдеж, возбужденно крикнул:
— Ладно!.. Сменяйте!.. Ну только помните, мужики… подтасовка это белогвардейская!.. Старорежимники орудуют между вас… Кулачье!.. Контра это!..
— Доло-о-й! — заорала толпа. — Слышали!..
— Не жела-аем!..
Надрываясь, Павлушка старался перекричать мужиков:
— Товарищи! Мы кровь проливали!.. Мы завоевывали Советскую власть!.. Кого вы слушаете! Живоглота Супонина… кулака Валежникова… старого мироеда Гукова…
— Довольно-о-о! — угрожающе заревела опять толпа, надвигаясь на крыльцо мельницы. — Не жела-а-ам!..
Слышались отдельные выкрики:
— Путаник!
— Айда в коммунию!
— Доло-о-ой!..
Партизаны ругались, размахивая руками:
— Кулачье-е!
— Мироеды-ы!
Бабка Настасья и Маланья тоже что-то кричали, отбиваясь от наседавших на них баб — жен богатеев.
Бабы, размахивая руками, визжали:
— Ведь-ма-а!.. Ведь-ма-а-а!..
Некоторые мужики кинулись разнимать баб.
У мельницы поднялась толкотня, в сплошном реве слышались матерные выкрики.
Павлушка стоял на крылечке, бледный, растерянный. Видел он, что среди ревущих мужиков были и середняки и те, что шли вместе с партизанами. Брала обида на партизан, оставшихся на лугах… Нахлобучив картуз, Павлушка спрыгнул на землю и быстро пошел от мельницы — в обход толпы.
Вслед ему возбужденно и угрожающе ревели:
— Молокосос!
— Мошенник!..
— Камунист окаянный!..
И тотчас же отделилась от толпы и, опираясь на клюшку, заковыляла за Павлушкой бабка Настасья. Бежала она за ним и хрипло повторяла:
— Павлушенька… сынок… постой-ка… Павлушенька… сынок…
На небольшом расстоянии быстро шла за ней Параська. А из толпы визжавших баб смотрела вслед Параське торжествующая Маринка.
Многое пережила Параська за этот час около мельницы. Теперь понимала и она, что в деревне началась какая-то сложная и ожесточенная борьба, в которую будут втянуты и бабы. Не знала еще, как пристать к своим мужикам и чем им помочь. Но чувствовала, что судьба ее навсегда связана с борьбой партизан, с борьбой отца и Павлушки. Когда толпа угрожающе двинулась к ступенькам, Параська трепетала за жизнь Павлушки. А сейчас вот она бежала за ним и за бабкой Настасьей, не понимая, что с нею делается. Хотелось ей кинуться к Павлушке, хотелось при всех обнять его и крикнуть на всю деревню: «Я с тобой, Павлуша!»
А Павлушка отошел с полсотни шагов от мельницы и остановился. Подождал бабушку, не замечая идущей вслед за нею Параськи. И когда бабушка подходила к нему, спросил:
— Чего ты, бабуня?
Бабка Настасья взглянула ему в лицо. Поняла, что он принял какое-то решение. И тревожно спросила:
— Куда ты, сынок?
— В коммуну, бабуня, — ответил Павлушка.
Бабка Настасья схватила его за рукав:
— Надолго ли, сынок?
Павлушка подумал и твердо ответил:
— Совсем, бабуня…
Эти слова долетели до слуха Параськи.
«Уходит! Совсем!» — пронеслось у нее в голове.
Хотела Параська подбежать к Павлушке, хотела сказать, что давно простила ему все, что готова бороться вместе с ним и готова умереть вместе с ним.
Но почувствовала, что нет у нее силы решиться на этот шаг. Сердце словно остановилось в груди, ноги не двигались.
Так и стояла, глядя безумными глазами по сторонам…
Глава 9
Не один раз за это лето собирались над урманом грозовые тучи. Не один раз по ночам где-то далеко в черной пропасти неба вспыхивали синими зарницами молнии. Доносились до Белокудрина глухие удары грома. Но за все лето только три раза прошли небольшие дождички над полями.
Бабы с тоской смотрели по ночам на фиолетовые огни, мелькавшие над урманом, прислушивались к далекому и глухому буханию и думали:
«Может, не гром это… Может, война идет…»
Торопливо крестились и шептали:
— Спаси, царица небесная, и помилуй…
Хлеба в этом году уродились низкорослые, реденькие, с чахлым колосом и мелким зерном. Овсы стояли пестролинючие, с большими черными лысинами. Озимую рожь мужики вырывали руками. А ярицу скосили вручную.
Не успели белокудринцы толком прислушаться к зеленому шелесту короткого и жаркого лета, не успели привыкнуть к золоту, упавшему на ржаные поля, как начали серебриться овсы и страда стала подходить к концу.
У многих мужиков ночами курились уже овины, по утрам звенели цепы на току, а днем веялось и сушилось зерно.
Мельник Авдей Максимыч то и дело подставлял ветрам обломанные крылья мельницы. День и ночь скрипела почерневшая от времени ветрянка — молола свежее зерно мужикам, давно приевшим старый хлеб.
А богатеи и в этом году разворачивали и молотили скирды, по десять лет стоявшие нетронутыми.
У Валежникова, Гукова и Оводова все лето жили работники. В прежние годы своих деревенских нанимали — и на покосы, и на страду. А нынче с весны из волости привезли каких-то поджарых и тонконогих людей в серой поношенной одежде, в ботинках и обмотках.
Примечали белокудринцы, что не рабочий это народ, не деревенский; за всякое мужичье дело неумело берутся. Да некогда было много над этим раздумывать.
Работали мужики и бабы от зари до зари. Не особенно присматривались к новым деревенским работникам. Не шибко верили и слухам деревенским.
А слухов в этом году было много. В богатых домах упорно твердили о какой-то большой войне, которая идет против большевиков и, может быть, скоро дойдет и до урмана. Все настойчивее и настойчивее говорили о том, что скоро приедут городские большевики за хлебной разверсткой и будут забирать у мужиков все до последнего зерна, даже на семена не оставят.
Много разговоров было о коммуне новоявленской. Одни говорили, что работают коммунары хорошо и живут дружно; что хлеба у них уродились и будто сдали коммунары одной хлебной разверстки четыре тысячи пудов. Другие болтали, что живут в коммуне мужики и бабы вповалку, никто не хочет работать, и поля коммунаров стоят неубранные.
Старики и старухи плевались, предсказывали наступление последних времен и страшного суда господня. Поговаривали о пришествии на землю антихриста. Кержаки не один раз собирались к Авдею Максимычу сходить — чтение старинных книг послушать и точные пророчества узнать. Да все недосуг было. До осени откладывали. А старухи кержачки, указывая на бродившую по деревне бабку Настасью Ширяеву, прямо говорили;
— Вот она, ведьма-то, ходит… Нечего и Авдея Максимыча тревожить… Сами видим: кабы не было антихриста, не бродила бы и она, окаянная…
А бабка Настасья после ухода Павлушки в коммуну уныло бродила по деревне, как муха осенняя, почуявшая приближение смерти. Часто стали мозжить старые кости. Тоска давила высохшую грудь. Раздумье тяжелое и горькое ворочалось в седой неугомонной голове. Ходила по деревне, присматривалась к появившимся новым людям, прислушивалась к бабьим разговорам и, опять ожидая беды, ворчала на деда Степана и на сына Демьяна:
— Кабы приехали тогда сами на сходку да помогли бы Павлушке партизан собрать, может, и не сманили бы парня-то…
Дед Степан и сам тосковал по внучонку. Только виду не показывал. Работая на поле и по дому, часто вспоминал золотые Павлушкины руки. За что бы ни взялся дед Степан, ему все казалось теперь не так сделанным.
Брался ли за косу — казалось, что отбита она плохо из-за того, что отбивал ее Демьян, а не Павлушка. Снопы ли были плохо увязаны — деду казалось, что все это потому, что вязал их не Павлушка. Захромал мерин буланый — опять же из-за того, что перестал за ним ухаживать Павлушка.
Передумывал все это дед Степан и тосковал.
Как-то рано утром вышел дед Степан на гумно — солому отобрать от трухи и ток зачистить.
Работал и, чего-то ожидая, все поглядывал на дорогу, уходящую далеко за поскотину, к повитому туманом темно-зеленому урману.