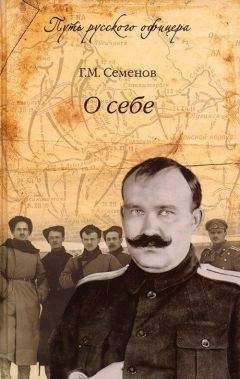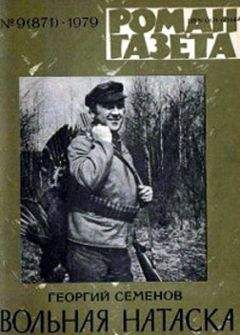Георгий Семенов - Ум лисицы
— Вы так думаете? — спросил обескураженный капитан.
Подполковник всем корпусом повернулся к нему и строго сказал, повысив голос:
— Уверен!
Именно в этот день, вечером, Геша неожиданно для самой себя прижалась к матери.
— Ты знаешь, мама, я безумно люблю Черное море и Крым! Мне обязательно нужно съездить туда еще раз! Ты меня отпустишь?
— Черное море? — удивленно спросила мать. — Но ты была совсем еще девочкой! Неужели ты помнишь Крым?
— Я вдруг вспомнила! — призналась Геша. — Сначала думала, что это мне приснилось, а потом поняла, что нет. Я вспомнила, как порезала стеклом руку… Помнишь, порезала палец? Собирала на пляже стекляшки… Море их обкатало, а я уронила на камушки, стала подбирать осколки и порезала себе палец. Я хорошо помню, ты испугалась, потому что кровь стала капать на камни.
— Но тебе тогда было всего три года! — воскликнула мать. — Ты не можешь помнить. Наверное, я тебе когда-нибудь рассказывала, вот ты и помнишь… Или, может быть, папа…
— Нет, — сказала Геша, — я сама. Там был мальчик, который мне нравился. Он смотрел на мою кровь, и морщился, и очень страдал, по-моему… Забыла, как его звали. Помню, он ходил в белой панаме, а на руке следы от ссадин. Около локтя. Корочка отвалилась, и кожа там была светлее. Я хорошо это помню. И море тоже помню. С одной стороны горы и с другой, а там, где мы жили, камушки на пляже, впереди, между горами, море… Все в искорках. Если бы ты знала, как я хочу туда хотя бы на две недельки! Мама. Ты молчишь?
— Это так неожиданно, — ответила мать и погладила Гешу, как маленькую, по голове, или, точнее, по пышным, упруго причесанным волосам, ощутив рукою пружинистую непрочность коричневой волны.
— Только не говори «нет»! — воскликнула Геша. — Я должна знать, что у меня нет никаких преград. Что я совершенно свободна… Пожалуйста, скажи — поезжай. Я тебя очень прошу.
— Поезжай, — сказала мать.
Геша поцеловала ее и шепотом, со слезами на глазах, с дрожью в голосе сказала:
— Спасибо. Я, может быть, никуда не соберусь, но я должна знать, что, если вдруг соберусь, меня никто не удержит дома. Я, наверно, никуда не поеду… Но все равно… Спасибо.
— Тебе надо отдохнуть. У тебя голые нервы.
В этот день Геша была на грани истерики. Она не могла найти себе места, и ей казалось, что она все время плачет, хотя и не плакала.
— Ну почему я не играю на гитаре? — спрашивала она в отчаянии, как будто в жизни ее случилось непоправимое несчастье, и восклицала: — В доме у нас никогда не было гитары! Я так завидую людям, которые играют. Мне кажется, я все вечера проводила бы с гитарою! Ты говоришь, я не помню Крыма! Как же не помню, если я даже стихи написала:
— Ты? Стихи?
— Не стихи, но я бы под гитару… я бы подобрала музыку и пела бы… Это, наверно, не так уж трудно.
Она целый час просидела за своим столом и написала такие строчки:
Как друза аметистовая
В дымке голубой,
Ты снишься, кипарисовая,
Зимнею порой.
Таврида моя нежная,
Согретая весной,
Вершины твои снежные
И крокус под сосной.
Ей так это понравилось, что она боялась продолжать, хотя и чувствовала — нужно было сказать еще кое-что о Крыме и о себе. Но дальше у нее получалось уж слишком:
К тревоге я приучена
И ветра слышу вой (?).
В груди моей измученной…
Грохочет твой прибой…
Зовут в дорогу дальнюю
С севера на юг,
В страну мою миндальную
Без слякоти и вьюг…
Кто зовет? Она не понимала и не могла ничего придумать. А строчка, в которой можно было бы объяснить этот зов, никак не складывалась в голове. «В груди моей измученной…» — повторяла она горькую, как ей казалось, фразу, которая ей очень нравилась! «Корабли, журавли…» — выжимала она из себя рифмы, надеясь, что «корабли и журавли» позовут в «дорогу дальнюю», но они глухо молчали. «Воплем корабли зовут в дорогу дальнюю, на краешек земли…» А как же будет тогда: «В страну мою миндальную»? Эта строчка ей тоже нравилась.
Ей вообще казалось очень интересным это занятие — писать стихи: что-то вроде кроссворда.
— Мне нужна гитара, — говорила она страдающим голосом. — Как ты думаешь, — обращалась она к матери, которая, скрывая тревогу, ласково поглядывала на нее, — очень трудно научиться играть на гитаре? Ну, не играть, конечно, а просто аккомпанировать… Как ты считаешь?
— Другие играют, — отвечала мать с грустной улыбкой. — Значит, и ты сумеешь.
— Ты мой самый хороший друг, мама! — воскликнула Геша, никогда не отличавшаяся излишней чувствительностью. — Ты просто чудо! Спасибо тебе.
Ночью была гроза. Первая в этом году, она обложила все небо над городом тучами и вспыхивала в разных его концах своим электричеством, освещая и тучи, и город, стучащие под ветром ветви бесноватых, белесых под молниями деревьев: рушила на землю, на крыши домов и автомобилей шумящую массу воды, в грохоте которой громы казались веселым треском пастушьего кнута.
Геша никак не могла избавиться от слуховой галлюцинации: тупого стука падающего тела, слыша вместе с ним и вопль смертельно раненного Кантонистова. Неживые его глаза словно подглядывали за ней из-под полуприкрытых синих век… Ужас этой смерти был еще и в том, что на полу рядом с телом лежала дохлая крыса, только что убитая тем же замком. Неужто закон Моисеев — «око за око» — явил тут себя во всей своей жестокости? Смерть крысы приравнялась к смерти человека, словно человек этот был из крысиной породы. Или крыса возвысилась до значения убитого Кантонистова?
Суетные поиски странной закономерности там, где торжествовал случай, не давали ей покоя. Она не спала, измученная бесконечной чередой совпадений, в которые и сама она была вовлечена, путаясь в догадках, какую роль во всем этом происшествии играл Ибрагим, отец ее сына.
— Он меня сведет с ума, — четко сказала она, глядя в темный потолок и слушая, как моросит за окном в тишине успокоившейся ночи дождик. Голос ее прозвучал безучастно, как чужой. Она услышала его, улыбнулась и вдруг поняла, что с ума не сойдет. — Глупость какая! — прошептала она и потянулась в зябком ознобе, прячась под одеяло.
Туманным утром в теплом воздухе пахло молодой травой, тополиными листьями. Земля, напоенная дождем, кротко смотрела в небо чистыми лужами, на дне которых застыли, как впаянные, бурые прошлогодние листья, пронзенные иглами травы. Было тихо и влажно. Небо, залитое молочным светом заоблачного солнца, повизгивало первыми стрижами. Полет был размашист и смел, и глаз не уставал любоваться быстрыми птицами. Летали они низко в это туманное утро, над самыми крышами, стремительно загребая воздух косыми крыльями, юрко отворачивали от натянутых проводов, от телевизионных антенн, словно играли с опасностью, жарким своим визгом оглашая живое небо, празднуя возвращение на гнездовья.
Начинался новый день зеленого роста на земле. Росла трава, росли листья, сбросившие с себя клейкие панцири почек, росли цветы мать-и-мачехи, медуницы, одуванчиков, которые в это утро, когда солнце белым шаром висело над крышами, робко прятались в зеленых венчиках, дожидаясь жарких его лучей. Росли и маленькие листья на пепельном невысоком еще кусте жасмина. Матово-зеленые, гладкие, они прорезали острыми вершинками мертвенно-серую кору и зелеными цветами украсили куст, который совсем недавно казался вымерзшим, иссохшим, не перенесшим зимних морозов. Зеленая эта жизнь тянулась к свету, отгороженному от куста глухим забором. Жасмину еще много лет надо было расти и крепнуть, чтобы одолеть извечную тень, в которой ему по прихоти человека суждено было жить. Но в это туманное, паркое утро, когда свет, казалось, проникал всюду, ему было очень хорошо. Маленькие листья, словно тугие лепестки крохотных роз, цепко держали шарики дождевой воды, похожие, как чудилось Геше, конечно же, на жемчуг, отливающий перламутром. Черная земля, в которой рос жасмин, как всякая земля под черным забором, лоснилась многолетним перегноем и, влажная, источала жирный, животворный дух. Трава, хоть и лишенная солнца, росла тут сочная, густая. Зеленые иглы ее начали свой новый рост, устремившись в зенит с извечной силой и самоуверенностью, как будто ничто не могло помешать душистой траве, никто не вправе был нарушить законы, по которым протекала хрупкая ее, ничем не защищенная жизнь, нацеленная, как к магниту, к невидимому солнцу.
— Вы, наверное, рассчитываете на благодарность, — сказал в этот день Геше благодушно настроенный подполковник, который уже точно знал о присвоении ему очередного звания: был звонок приятеля из министерства.
Минут сорок сидели они вдвоем в его бледно-розовом кабинете, пропахшем новым дерматином. Подполковник внимательно выслушал ее, кое-что записывая для памяти и для дела в большой блокнот.