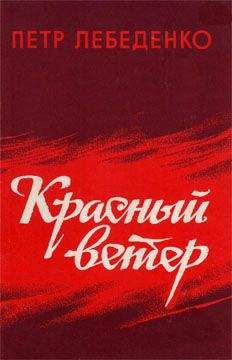Пётр Лебеденко - Льды уходят в океан
Но то — на земле. Там все не так, все по-другому. В море своя жизнь, в океане свои законы. Здесь люди верят, конечно, радиограммам гидрометеостанций, но еще больше верят своему чутью. Синоптик может ошибиться, чутье старого моряка — никогда.
От кормы до носа пронесся голос капитана, усиленный мегафоном:
— Команде занять места по штормовому расписанию! Боцман, натянуть штормовые леера![5] Закрепить шлюпки! Старшего механика — ко мне!
Без суеты натянули леера, намертво закрепили все, что могло быть снесено волнами, убрали трапы, наглухо задраили люки.
И стали ждать.
Кирилл сходил в радиорубку, вернулся и сказал:
— Радист говорит, что где-то на норд-весте взбесилась Атлантика. В двухстах милях от Ньюфаундленда пошли на дно два танкера-норвежца. В один момент. С базы приказали полным ходом топать в Дакару. Ураган прет прямо на нас — двенадцать баллов!
— Картинка! — заметил Цапля. — Надо, пожалуй, пойти в камбуз подрубать на всякий случай. Заваруха начнется — не до живота будет. Айда, Саня?
Саня коротко бросил:
— Нет.
И отошел к борту. Прожектор выключили, и теперь все тонуло в густом мраке. Топовый фонарь слегка раскачивался, и казалось, что в небе кто-то туда-сюда водит зажженной сигаретой. Из рулевой рубки падал клочок света, и было видно, как Максим Петрович ходит взад-вперед с мегафоном в руке.
А за бортом, куда смотрел Саня, — будто колеблющаяся лужа дегтя, настолько черная, что страшно смотреть.
И тишина кругом. Ветерок, потянувший с юга на север, снова затих, теперь только и слышно было, как трется вода о невидимый борт. Да очень еще далеко погромыхивала приближающаяся гроза.
Сане не раз уже приходилось попадать в штормы, он теперь не боялся морской болезни, но каждый раз, когда на «девятку» надвигалась буря, у него возникало такое ощущение, словно он ждет неминуемой беды. Его угнетал не сам страх, а ожидание чего-то страшного и, как ему казалось, неизбежного. В такие минуты он замыкался в себе, становился угрюмым и нелюдимым.
Цапля, не в силах понять душевное состояние своего приятеля, говорил:
— Трусишь? Тогда лучше топай на землю. Море трусов не любит. Накатится однажды и слизнет, будто тебя и не было. Море, брат, само — сила и силу уважает. Силу души человеческой, понял?
А Саня и не трусил. Он знал: сегодня на дно пошли два норвежских танкера, завтра туда же может отправиться и русский траулер, который называют «девяткой». И вместе с «девяткой» исчезнет Саня Кердыш, матрос, сын Ледового Капитана. Ну и что ж? Жить, конечно, хочется каждому, но кто застрахован от смерти?
Может быть, его пугала слепая ярость стихии? Может быть, его угнетало свое бессилие перед этой слепой яростью?.. Что может сделать человек, когда на него наваливается чудовище, силу которого никто не измерил?..
Совсем неожиданно за кормой раздался взрыв, точно там разорвалась торпеда. Огненный шар скользнул по вол не, магниевой вспышкой осветил море, корабль, мертвеннобледные в этом неестественном свете лица макросов и, шипя, раскололся на части.
Саня отшатнулся от борта, уцепился за штормовой леер и точно припаялся к нему руками. Стоявший у шлюпки Цапля громко сказал:
— Сигнал, братцы, подан, теперь держись!
Цапля не ошибся: взрыв шаровой молнии действительно как бы послужил сигналом к началу необыкновенного спектакля. Уже через минуту на «девятку» налетел первый шквал ветра, встряхнул ее, сорвал с моря сноп пены и брызг, бросил их на палубу. В мачтах завыло, засвистело, топовый фонарь прочертил кривую, почти коснувшись поднявшегося к самому небу темного гребня.
— Всем держаться за леера! — крикнул с мостика капитан. — Всем укрыться!
Из темноты, из неведомого катился вал. Даже сквозь вой ветра был слышен нарастающий с каждой секундой гул, будто по мерзлой тундре мчалось дикое стадо оленей. И, как земля, дрожало море. Дрожало не то от радости, что оно вновь обрело грозную мощь, перед которой все должно трепетать, не то от ярости, до этой минуты скрываемой, а теперь вдруг прорвавшейся наружу. Точно так дрожит зверь, готовясь к прыжку на застывшую от страха жертву.
Кто-то с кормы успел закричать:
— Полу-ундра-а!
И весь мир превратился в хаос.
Не стало ни моря, ни неба, земля, казалось, сорвалась со своей орбиты. Вместе с землей в этом хаосе мчалась в неизвестное и «девятка». Скорлупа из дерева и железа, как о ней писал Саня. Песчинка в самуме, клочок пены в ураганном шторме… Или от «девятки» ничего не осталось? И в ад летит не корабль, а всего-навсего обломок доски с намертво охватившим его человеком?
Саня ничего не знал. И ни о чем не мог думать. Когда с кормы закричали «полундра!», Саня скорее почувствовал, чем понял, какая надвигается опасность, он выпустил из рук леер и бросился к надстройке. Ему оставался один шаг до рубки, но он успел осознать, что этот единственный шаг сделать невозможно: через десятую долю секунды его смоет, как щепку.
И он плашмя упал на палубу, судорожно ища руками какой-нибудь предмет, за который можно было бы ухватиться. На счастье, такой предмет оказался: внизу, к стене надстройки, был наглухо привинчен щит для противопожарного инвентаря. Уцепившись за него, Саня затаил дыхание.
Вначале он ощутил только навалившуюся тяжесть. Его придавило к палубе так, словно неведомая сила задалась целью раздавить человека в лепешку. Ни шевельнуться, ни вздохнуть. Над ним клокотал многометровый черный вал, сквозь который не пробился бы и мощный луч прожектора, а Сане казалось, что он ясно различает зигзаги молний, пляшущих вокруг корабля. Молнии, правда, были необычными: синие, красные, зеленые — настоящий фейерверк, разорванная на части радуга… «Да это же в глазах у меня мельтешит, — подумал Саня. — Это же в голове они, а не там…»
Потом через секунду-другую та же сила, которая хотела раздавить его, стала отрывать его руки от щита. Рвала с исступленной яростью ожесточенно, будто человек был ее исконным врагом, и она решила покончить с ним раз и навсегда. С такой же исступленной яростью человек отстаивал право на жизнь. Задыхаясь, корчась в судорогах оттого, что вместо воздуха в его легкие врывалась горькая пена, человек упорно сопротивлялся, все теснее прижимаясь к щиту, и хотя его сопротивление было уже не столько осознанным, сколько инстинктивным, он не сдавался… Но нет предела силам стихии, и есть предел силам человеческим…
А в это время в штурманской рубке, куда успели укрыться моряки, Цапля крикнул:
— Его смыло, братцы! Я видал, как он упал вот тут, за надстройкой.
Кирилл Ванин стоял рядом с Цаплей, остекленевшими глазами глядел за окно рубки. Лицо матроса было перекошено, губы дрожали, будто Кирилл вот-вот заплачет, Но он вдруг медленно повернул голову к Цапле, глухо проговорил:
— Видал? А чего ж ты бросил его, гад? — И срывающимся голосом закричал: — Чего бросил, спрашиваю? Своя шкура дороже? Мор-ряк, в душу твою мать!
Кирилл бросился к двери, навалился на нее, силясь открыть и выбраться на палубу.
Что он мог теперь сделать? Погибнуть сам, не принеся никакой пользы тому, кого уже наверняка там нет?
Матросу было все безразлично. Все! Его душила боль за друга, которого оставили в беде. Его душил гнев на всех, кто стоял здесь живой и невредимый. Там, за бортом, Санька Кердыш, один во всей вселенной, рядом со своей смертью. Какими глазами он смотрит сейчас на тусклый топовый фонарь «девятки», на жизнь, которую уносит от него ураган? И как же это страшно — быть там одному!
На плечи Кирилла легли тяжелые руки старого матроса Ивана Челенко. Угловатый, всегда медлительный, Иван обладал медвежьей силой, которой иногда даже сам боялся. Возьмет, бывало, в свои широкие ладони какую-нибудь вещичку, повернет туда-сюда, глянь — а она уже хрустнула. Иван в полном недоумении: чего это она?
— Сдурел ты, Кирилл, очнись, — сказал Челенко. — Море шутковать не дюже любит. Судьба, значит, такая у человека, понял?
— Пусти, Иван!
Кирилл хотел сбросить его руки, но старый матрос осторожно притянул его к себе, и тот застыл, не в силах пошевелить и пальцем…
Первый вал схлынул. Вокруг мачт, лебедки с якорной цепью, у задраенных люков еще бешено крутились воронки, а траулер, взлетев на гребень и на какое-то мгновение будто застыв там, ринулся вниз, в бездну, навстречу новому, еще более страшному валу.
Сане надо было вскочить и бежать в рубку, но он плохо соображал. Все его мысли и чувства сейчас были подчинены только одному: дышать. Дышать, пока вокруг него есть воздух, пока он может втягивать его в свои рвущиеся от боли легкие. Думать о чем-нибудь другом Саня не мог. Правда, где-то в самом дальнем уголке сознания билась мысль, что он, оставаясь здесь, находится в страшной опасности. Ведь через несколько секунд его снова накроет темная громада, которая опять сперва вдавит его в палубу, а потом начнет отрывать от нее, и у него, наверное, больше не хватит сил удержаться.