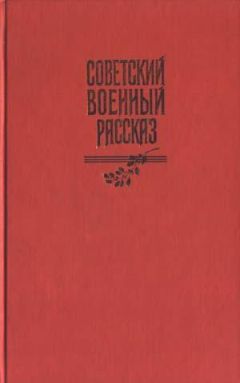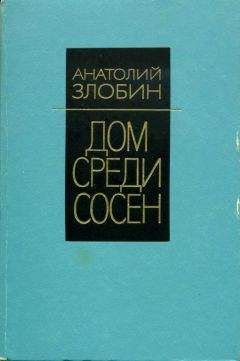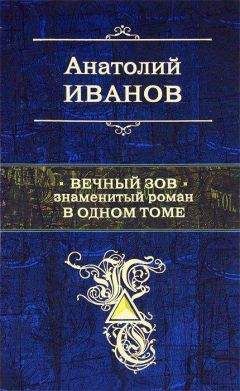Анатолий Иванов - Вечный зов. Том II
И Субботин вдруг усмехнулся.
— Но что об этом. От меня, когда он вернётся, это, я думаю, зависеть уже не будет.
— Не нравится мне твоё настроение.
— Слабею я, Поликарп, — доверчиво, по-стариковски, проговорил Субботин. — Уходят силы… А коль от тебя, Поликарп Матвеевич, зависеть будет судьба Полипова, ты этот наш разговор вспомни. Прошу тебя как старший товарищ. И вообще не забывай никогда: «кадры решают всё». Это ведь не просто слова, это лозунг громаднейшего социально-политического смысла и значения… Какие будут стоять у руководства люди, так и наши дела пойдут. Ты на примере того же Полипова, кажется, убедился? Или нет ещё?
— Да, убедился, — проговорил негромко Кружилин.
— Вот это, о Полипове… и вообще всё это я и хотел тебе сегодня ещё раз сказать, дорогой Поликарп Матвеевич, — закончил Субботин.
За окном всё играла тополиная метель, пуховые хлопья кружились, как настоящие снежинки. В комнате было душно и жарко, но из-за этой метели форточку открыть было нельзя.
— К нам в ближайшее время не собираешься? — спросил Кружилин.
— Собираюсь. Тем более что давно я не видел одного человека, проживающего там у вас, в Шантаре. Проведать надо.
— Это какого же человека?
— А старушку одну по имени Акулина Тарасовна. Не слыхал? Фамилия у неё такая простенькая — Козодоева.
— Козодоева? — Кружилин удивлённо поглядел на Субботина. — В верховьях Громотухи старичок живёт любопытный — Филат Козодоев. Плотогон был в молодости непревзойдённый. Да и нынче мы его попросили плоты оттуда спустить, других специалистов этого дела нет. У него была жена, кажется, Акулина…
— Ага, она, — кивнул Субботин, почему-то отворачиваясь.
— Я думал, она давно померла.
— Живая покуда… Разошлась только давно со своим старичком, с Филатом этим, живёт потихоньку в твоей Шантаре.
— Ты-то откуда её знаешь?
— Давнее дело, — чуть помедлив, с явной неохотой проговорил Субботин. — Году, кажется, в девятьсот пятом я из Александровского централа ушёл. Кстати, вдвоём с отцом Елизаветы Никандровны мы тогда бежали. Во время погони он погиб, подстрелили его. Славный был человек и верный товарищ. Мне удалось погоню обмануть, следы запутать. Но я потом чуть не отдал в тайге богу душу… Замёрз бы я, если б не Акулина Козодоева.
Здесь Субботин умолк, собрал морщины на лбу.
— В общем, в тайге я встретил её. Она меня отходила.
— Чего ж ты раньше не сказал… что у нас живёт такая?
— Ну ладно, — прервал его Субботин, кажется, недовольный тем, что Кружилин проявляет к этому делу повышенный интерес и что вообще начал речь о Козодоевой. — Живёт — и пусть живёт. Поклон передай, а больше ничего.
— Хорошо, — сдержанно сказал Кружилин.
— А теперь ступай. Я на часок прилягу, отдохну.
Кружилин поднялся.
— А Назарова ты не обижай, — проговорил Субботин, опять глядя в окно. — Поддерживай, как только можешь.
— Разве не поддерживаю? Мой предРИКа Хохлов Иван Иванович настаивает, чтобы мы представили Назарова к правительственной награде. И сегодня первый об Назарове говорил…
— Говорить-то говорил… Да мне кажется — не пройдёт номер с наградой.
— Почему?
— А потому! — сказал Субботин сухо и раздражённо. — Ну, что ты так смотришь? Сейчас везде лихо, и повсюду люди невозможное в тылу делают. И все наград достойны. Всем поголовно ордена, что ли, раздавать? Не хватит на всех… Ну, всего тебе доброго, Поликарп.
Кружилин пожал протянутую ему руку и вышел из дома секретаря обкома в зной и тополиную метель.
Шагая к вокзалу, Поликарп Матвеевич раздумывал, что последние слова Субботина, с одной стороны, были понятны, но с другой — они как-то не убедили его. В тылу, на колхозных полях, порой не легче, чем на фронте, и люди действительно делают невозможное. Разве не справедливо было бы награждать самых достойных? Но за всю войну почему-то не было ещё подобного случая. Орденами часто отмечали работников различных областей промышленности, преимущественно оборонной. А хлеб разве сейчас не оборонная продукция?
* * * *
Знойный июльский день начался давно, и казалось, никогда не кончится. Солнце, как всегда, не торопясь выплыло, поднялось из-за края земли, лениво стало взбираться на небо. Уж нет-нет достигло оно зенита, и казалось, застряло там навсегда, стояло и стояло, не думая скатываться вниз, к Звенигоре.
Под высоким небом гранитные вершины её нестерпимо сияли. Каждый каменный кристалл яростно отражал солнце, сверху на утёсы лились и лились солнечные струи, разбивались об камни на потоки ослепительных искр.
Весь день, с самого утра, Ганка, дочь Марьи Фирсовны, обливаясь потом, остервенело дёргала осот, молочай и сурепку, бросая злые взгляды на небо, на раскалённые солнцем горы, на работавших рядом дочерей школьной учительницы Берты Яковлевны — Майку и Лидку, на Димку и его двоюродного брата Володьку Савельева, жившего в этом колхозе и теперь возглавлявшего бригаду школьных полольщиков. Володька, у которого под солнцем давно и, казалось, навечно выгорели не только волосы, но и глаза, время от времени разгибал бронзовую, мокрую от пота спину, оглядывал хлебную полосу, которой не было конца, потом поднимал голову вверх и говорил:
— Давайте… А то солнце вон покатилось.
Ганка после таких слов ещё больше злилась. Во-первых, солнце никуда не покатилось, как торчало, так и торчит на месте. Во-вторых, они все и так «давали» — у неё руки и всё тело горели от проклятого осота. Рваные и мокрые матерчатые рукавицы совсем не защищали от ядовитых колючек, а на теле, кроме трусов да ситцевого лифчика, ничего не было.
Но злилась она не на солнце, не на тяжёлую работу. Как она ни тяжка, скоро должна была кончиться, их послали в колхоз до первого августа. И злилась не на Володьку, Лидку, или Майку, или даже Димку, а так, неизвестно даже и на кого или на что. Жизнь её до той зимней ночи, когда мать затеяла побелку дома, а потом все они вповалку легли спать на полу, была в общем простой и лёгкой, несмотря на тяжкое время эвакуации и устройства на новом месте, у чужих людей, в этой Шантаре. Каждый день приносил что-то новое, хорошее и интересное, другие, незнакомые люди становились знакомыми и близкими, война, казалось, скоро кончится и они уедут обратно на Украину, под Винницу. Туда же вернётся отец, на старом месте построит дом, все вместе они посадят сад, будут поливать деревья, чтобы они быстрее выросли, зацвели… Думать и мечтать обо всём этом было приятно, и хорошо было разговаривать с Димкой о таком недалёком времени.
— А приедешь… приедешь ты потом к нам в гости под Винницу? — спрашивала она у него.
— Дак ты… сад сперва вырасти, — почему-то мешаясь, говорил он.
— Он сам вырастет. Мы только посадим. Весной он будет белым-белым! А ты в это время к калитке подходишь… Или нет, лучше осенью, когда на каждой ветке во-от такие яблоки будут! А я почувствую, что ты подходишь…
— Это как же ты почувствуешь? — опуская голову, будто заметив что-то на земле, спрашивал Димка.
— А так… — И она, непонятно даже отчего, тоже мешалась. — Догадаюсь — и всё.
Такие разговоры порождали неловкость. На Димку глядеть было стыдно. Но сердце у неё приятно волновалось, и расставаться с ним не хотелось.
Всё кончилось в ту злополучную ночь…
* * * *
…Ганка облилась жаром, когда поняла, что Димка лёг на пол рядом с ней, но сразу же сделала вид, что спит, но не спала и не уснула в ту ночь ни на секунду. Она слышала, как Димкина рука легла на её волосы, рассыпанные по подушке, как его пальцы пугливо дотронулись до её шеи. «А мама… если мама всё увидит?!» — прожгло её насквозь, но затем в голове зазвенело, потому что Димкина ладонь коснулась её груди. Ей хотелось от испуга пронзительно закричать, вскочить и от стыда забиться куда-то в глухую щель, под землю, в кромешную и вечную тьму, но капелькой сознания она понимала, что кричать и вскакивать нельзя, она не то простонала, не то пробормотала что-то и торопливо повернулась к спящей рядом матери. Димкина ладонь осталась у неё на плече, он её не убирал всю ночь. «Интересно, почему он не убирает руку? — думала она до самого рассвета, чувствовала, что он тоже не спит. — Рассветёт — и мать увидит… Или Андрейка… или ещё кто».
Она думала об этом испуганно, но в то же время ей не хотелось, чтобы он убирал руку.
Ещё она думала, что утром посмотрит на Димку как ни в чём не бывало и сделает вид, что спала мертвецким сном и ничего не слышала. Но оказалось, что теперь посмотреть на Димку не так-то просто, лицо, шея, кажется, всё тело само собой заливалось краской.
С той ночи всё изменилось, весь мир изменился. Она раньше недолюбливала за что-то Николая Инютина, он казался ей взрослым дядькой, способным на какую-нибудь гадость, но теперь вдруг почувствовала, что с ним легко и просто, что он, хоть и относится к ней немножко свысока — ну как же, на два класса выше учится! — человек сердечный и добрый и обидеть её не собирается. Он вечно был занят разными необыкновенными и таинственными делами — что-нибудь строгал, пилил, изобретал, и всегда у него можно было увидеть что-то интересное. Однажды, зайдя к Лидке с Майкой за учебником, она увидела посреди комнаты деревянную клетку, а в ней двух зайцев. Один из них, как и положено зайцу в зимнее время, был белым, а другой серым. Николай, склонившись над клеткой, совал туда солёный капустный лист, на дне клетки лежали свежие морковки. Дочери учительницы стояли рядом и наблюдали за его занятием.