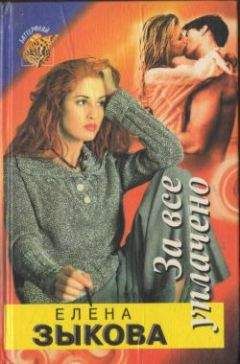Николай Москвин - Два долгих дня
— Ну, отцы и дети, знаете, всегда...— примирительно сказала Надежда.— Только так говорится, что проблема эта в прошлом.
— Нет, у Светланки другой! С ним обо всем поговорить можно — человек человеком... А тоже строил дачу. Через дорогу от нас...
Хозяйка потянулась, сорвала травинку и стала обматывать ею палец.
— Это все зависит, Катя, от культуры. Какая она: внешняя или внутренняя...— Надежда принялась разматывать травинку.— Я знаю одного человека.... Поскреби его, а там... В общем, не то, что сверху... Но что у нас, у женщин, плохо, позорно! — Она отбросила травинку.— Привыкнув жить под крылом, мы трудно с ним расстаемся! Даже если видишь, что крыло тебе... чужое.— Она дотронулась до Катиной руки.— Это, конечно, не про вас, а про замужних... некоторых. Про тех, которые ошиблись, не то нашли...
Но Катя, видно, свое еще не отговорила.
— Нет, я буду жить отдельно. Не так стыдно...— Она пристально посмотрела на Надежду.— Ведь, понимаете, нет ничего стыднее, когда на словах одно, а на деле другое. Ведь есть уже бригады коммунистического труда... Не у нас, конечно, а на заводе, но все равно мы как бы с ними... Тоже душой с ними, тоже в ответе. А вот дома все другое, другое... Будто вру кому, будто бессовестная! — Катя передохнула, губы у нее задрожали, и она опять схватилась за мокрый платок.— Маму только жалко! — Она отвернулась.— Ну, будет ко мне приходить... Так ведь не насовсем, а лишь на минутку...
Ужухов все слышал, но не все ему было понятно. Так он однажды по радио слушал: горячились люди, горячились, но так по-ученому, по-мудреному, что неизвестно из-за чего... Прямых слов нет, а все только вокруг. И с дачами, что девчонка говорила, тоже не то... «Эх, дуры бабы! Не о том ахать надо, что человек к дачке своей присох, а о том, как он ее на свои восемьсот целкашей жалования строил!.. Тут вот сиди в сырости, как гриб, и добывай себе хлеб-соль, а тот на свету вразвалку ходит и ничего!..» Но поверх всех слов, поверх всего мудреного и ненужного он понял эту девчонку с двумя косами, как недавно понял и хозяйку. Зря слез не льют...
Вдруг встрепенулся.
«Эх, дело чертово! Тут слюни не распускай!»
Пока суды-пересуды, пока о чужих слезах жалостился, эти, на скамейке, вдруг поднялись и пошли. Думал, хозяйка до калитки, а она — и за калитку...
Это что же? Провожать пошла! И далеко — Щегольковы, слышал, ведь у станции...
И сразу от покоя, от беззаботного подслушивания у глазка вдруг к своей заботе. Мысли уже вернулись, а сам еще сидит у глазка и отрываться не хочет. Но вот по-собачьи, на четвереньках, бросился к дверце, к выходу. Да в темноте, в суете не в ту сторону. Вернулся, заметил свое барахло: брать, не брать?.. Что же после того сюда, в темноту, опять за вещичками лезть?
Взял мешок, одеяло, шапку... А недопитую бутылку водки в каком-то беспамятстве решил оставить. И, прижимая к себе вещи, уже отполз было от нее, но оглянулся. Через щель серый лучик вечернего света — прямо на бумажную пробку в бутылке. Другому балбесу и не понять — пробка и пробка, а тут своя выучка: сколько фартовых домушников и городушников засыпалось на мелочной дряни — на клочках да обрывках... А бумажку для пробки он ведь из кармана вынул,— может, что написано там!
Вернулся, бросил вещи и — к пробке. Верно — что-то написано. Пробку сунул в карман и глазами вокруг — чем бы еще заткнуть?. Шарил-шарил и вдруг, как по лбу, — вот балда! — зачем вообще-то бутылку оставлять? Заткнул той же бумажной пробкой — и в карман. Схватил вещи, подцепил и забытый раньше бидончик с водой. Тяжело переваливаясь, как подбитый — на двух коленях и одной руке,— заспешил к выходу.
Уже потянуло керосином от бутылей и банок, стоящих при входе. Пополз медленнее. У дощатой дверцы замер. Приоткрыл ее, выждал — не смотрит ли кто? Мимо изгороди по улице шли двое — пусть пройдут... Но они не прошли. Открыли калитку. А это, оказывается, Пузыревские...
Ужухов отпрянул от дверцы в темноту.
«Ну, все! День кончился!»
Не выпуская вещей, привалился у дверцы, как подбитый.
...Федор Трофимович, встретив жену с заплаканной Щегольковой, молча подождал, когда они распростятся, и, как только Катя отошла от них, спросил: что за слезы? В ответе жены было не только сочувствие Кате, но и что-то такое, направленное против него, Федора.
Это было для него не новым. Обычно он как человек, которого в чем-то обвиняют, старался оправдаться. Но сегодня только досадливо махнул рукой, пробормотав: «A-а! Надоело!» Надежда Львовна удивилась не словам, а голосу — был он какой-то резкий, каркающий. Она посмотрела на Федора, и теперь поразило его лицо: неподвижное, темное, с каким-то затаенным блеском глаз. Он вышагивал в своем франтоватом сиреневом костюме рядом, рослый, тяжелый, и песок на дорожке скрипел под ним. Но шел неровно: то замедляя шаг, то даже приостанавливаясь. Так держит человека мысль, дело или желание, не до конца решенные.
Но Надежда Львовна подумала: какие-нибудь неприятности по работе. И так молча они подошли к дому, открыли калитку и молча — она впереди, он сзади — взошли на террасу, прошли над изнуренным, притихшим Ужуховым. Ее шагов подпольный узник не услышал, от ног же Федора половицы террасы стали прогибаться — над головой, дальше, еще дальше, уже в комнатах, затихая...
Глава четвертая. Наверху
1
Да, Федору Трофимовичу сейчас было не до чужих слез, не до семейных разладов и обид. Было одно дело, которое он в душе называл «смелое дело», оно приближалось, с ним уже нельзя было тянуть, а смелости-то не хватало. Бывают такие тайные заботы — и легко ходит человек, и смеется, и заведенные дела делает, а в душе, как в старину говорили, червь гложет. И никому об этом черве не расскажешь, помощи не получишь — все сам и сам... И оттого, что все сам — без благословения, без локтя рядом,— боязно... Вот на целине было совсем другое! Не в одиночку тогда шел, не бобылем, а подобрались хорошие, солидные люди, и все чинное благородно — и друг другу посоветовали, и друг другу помогли, и сообща отвалились подобру-поздорову...
...В большом деле все большое: и добро и зло. На бескрайние степи поднимать нетронутую землю приехало доброе большое племя, обуянное жаждой подвига, жаждой небывалой работы, неслыханных свершений. Не громкая, не крикливая, а простая любовь к родине привела их сюда, привела налегке, с котомкой за плечами, и привела на пустое, дикое, где надо было начинать с древнего, с первобытного: с костра и с кольев, вбитых в землю — в землю, в которую никто и никогда ничего не вбивал...
Но, конечно, страна не оставила их здесь робинзонами — следом потянулись строители, хлебопеки, водовозы, завклубами, киномеханики, почтари со сберкассирами, ну и, понятно, всевозможная торговля. Над всеми этими потянувшимися реяла слава целинников. Что же, справедливая слава: они тоже начинали с костров и кольев. За первым эшелоном был второй, третий — и слава еще реяла, но под ее стяги порой стали подходить, подъезжать и такие молодцы, которые у себя дома давно были обесславлены или после всяких крушений прозябали на невидной работе. Облегчало им дорогу сюда и то, что костров и кольев уже не было — люди жили в домах с теплом, с водой, с клубами и с торговлей. Вот именно что с торговлей. К ней-то новые паломники и пристали. И не зря: базы, склады, магазины — все широко было, не потревожено, непугано, тоже в своем роде целина. Зловредные ракушки прилипают и к двухвесельной лодке, и к просторному дну могучего дредноута. Так и здесь: в большом, народном деле и прилипал оказалось немало...
Так огорчительно Федор Трофимович про себя, конечно, не думал, тем более что поехал он на целину, тяготясь невидным и беспокойным магазином с шапками-шляпками, имея о будущей своей работе на целине хотя и обольстительные, но смутные планы. А уж осенило его потом, на месте. И про это недалекое время — прошло всего четыре года — он часто и с охотой вспоминал. И легко вспоминал — все обошлось хорошо, тихо.
...Как нередко бывает, помог счастливый и, можно сказать, забавный случай. По новой проложенной трассе, проходящей через старую, еще доцелинную деревеньку, ездил их базовый шофер Вакуличев. Глупые деревенские куры, незнакомые еще с двигателем внутреннего сгорания, попадали под него. Когда дюжий ярославский «ЯЗ» с медведем на радиаторе, грохоча и дымя, проезжал, хозяйки бежали к погибшей душе, поднимали ее, бездыханную, с дороги и, причитая, понося черта с внутренним сгоранием, тащили ее к заведующему торговой базой Тишаеву. Сердобольный и справедливый заведующий платил деньги за раздавленную курицу — как же иначе! — потом вызывал Вакуличева и отчитывал его, обещая переложить расходы на него. Тот оправдывался:
— Так разве ее заметишь! В сравнении с «ЯЗом» куренок все равно что комар. Кроме того, четыре здоровущих колеса — не углядишь. Может, задним маненько и прихватишь птицу...