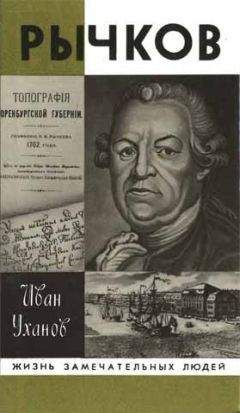Иван Уханов - Играл духовой оркестр...
Она казалась ему настолько неожиданно и как-то нелепо тяжела, эта вина, что он противился принять ее целиком на себя. По укоренившемуся обычаю ловко и легко выходить из любых трудностей он не привык, не допускал видеть себя слабым, растерянным, уличенным в какой-либо несуразной промашке, которую уже нельзя поправить. Он старался и умел все делать наверняка, с блеском и не любил тех, которые по той или иной причине что-то не могли, не умели. А теперь сам выглядел неудачником, загнанным в тупик.
«Разве я настаивал? Нет. Разве выбрасывал из чемодана тот узелок? Нет. Я только трезво рассудил. И никто слова не сказал мне против. Ну с Марийки ладно, какой спрос: она меня, отца, послушалась. А Катя? Что ж смолчала? А теперь ишь куда гнет: «Ты все натворил! У меня и в мыслях не было, что от такой ерунды помереть можно…»
Хотелось ему стать на колени, обнять бездыханное тело, говорить и говорить добрые, благодарственные слова, какие некогда было сказать матери при жизни…
Шли на ферму доярки, заглянули к Косцовым. Многолюдье в ранний час у крыльца привлекло внимание и спешащего в школу Бучина. На ходу ловя новость, он быстро прошел в горницу.
— Как же это? — глухо вырвалось у него, когда он увидел Нюшу.
— Дык просто это. Взяла да померла. Как люди помирают? — шепнула ему одна из старух.
— Катя дюже ночью кричала, будто каялась, — зашепелявила другая.
Учитель стоял, мертвея лицом. Михаил встретился с ним взглядом и опустил глаза. Подобный взгляд он видел лишь однажды у известного хирурга райбольницы, когда тот, сняв повязку, вышел из операционной, где только что скончалась роженица.
Вбежала Катя, упала матери на грудь и, судорожно комкая коленкоровое покрывало, исступленно завыла, причитая:
— Да чтой-то ты наделала, ма-ма-ня-я? На кого меня бросила, родненькая? Во всем белом свете одна я теперь, одна-одинешенька. О-ох-ох…
Слезам и воплям Кати не виделось конца. Михаил вынул платок, протер глаза и вышел в кухню, зажег сигарету. Из горницы показался Бучин.
— Погодили бы курить, Михаил Федотыч, — сухо обронил он и вышел на улицу.
Следом появилась Катя, утирая передником распухший нос.
— Миша, ты иди куда пошел или мне помоги. Чего без толку толчешься? — деловито сказала она мужу.
— Да, я пойду… сперва в столярку, потом в мастерские. Я все сейчас… Я живо… — заспешил Михаил, утешаясь этим рвением взяться за любое дело, касающееся похорон матери.
В северный конец деревни, где высились лесопильня и мастерские, он пошел не улицей, а задворками, пустырем, не желая встречаться с людьми, с их расспросами. Он торопился, но не поехал на мотоцикле, хотя идти было далеко. Сейчас он боялся всякой скорости. События неслись так скоро в этот утренний час (вот он счастливый, с песнями мчится на мотоцикле, вот уверенно планирует нынешний день, радуясь завтрашнему, вот он видит мертвую мать и вот уже идет к плотникам заказывать ей гроб…), так безжалостно скоро, что ему хотелось приостановить их, но не мог и поэтому то и дело останавливался сам, глухо бормоча под нос:
— Нет, погодите, постойте! — Он не соглашался с обступившей и сжавшей его со всех сторон действительностью, не соглашался с тем, что она не сон — правда.
Но постепенно к нему возвращались самообладание и привычная трезвость мысли. Все просто и ясно. Мать умерла, и ее надо схоронить. Однако не уходило чувство виновности в ее смерти. Оно давило, вгоняло в мрачное уныние, так непривычное для него. Хотелось как-то стряхнуть с себя или хотя бы приуменьшить тяжесть вины.
«Я тебе такие похороны устрою, мам, каких ты никогда не видела! С музыкой, с оркестром…»
Эта внезапно пришедшая мысль показалась спасительной.
«Такие похороны закачу, мам!»
Но озарение тут же погасло: разве мать сможет увидеть свои похороны? Нет. Значит, и не оценит его хлопоты и старания. «Теперь хоть золотом обсыпь, хоть в гроб хрустальный клади — ей все равно». Этот вывод, однако, кроме безысходной грусти нес некоторое утешение, похожее на забвение, восстанавливал в нем обычный уверенный ход здравых рассуждений. Он никогда не болел и пренебрежительно относился к больным и слабым, порой винил их за недуги, будто бы приобретенные ими по оплошности и ротозейству. На немощную Нюшу смотрел с хладнокровным выжиданием, как на ветхий, клонящийся к земле плетень — чини не чини — рухнет…
«Ты прости, мам… Кажется, для тебя я делал все, что не попроси…» Михаил стал вспоминать, какие это были просьбы, но так и не вспомнил. Всплывали в памяти какие-то мучительно-беспокойные ночи, когда Марийка, лежа в люльке-качалке, орала что есть мочи, Катя то и дело вставала к ней с постели, мешая спать ему. Выведенный из себя надрывным детским плачем, вскакивал с постели и он, пробовал успокоить ребенка, если не получалось, хлопал его по заду и, сильно тряхнув люльку, уходил в спальню, с головой укутывался одеялом, старался заснуть и ничего не слышать, в душе ругая Марийку, относя ее к тому же роду слабых и больных, то есть неполноценных людей, которыми он пренебрегал, которые не стоили его хлопот. Крик вскоре смолкал: вставала Нюша, снимала с крючка люльку и шла с ней в сени, зажигала там коптилку и баюкала Марийку до самого утра. Затем вместе с ним, Михаилом, спешила на ферму, едва успев сполоснуть водой припухшее, с темными кругами у глаз лицо…
— Чего, Михаил Федотыч, мать-то, теща, померла, слышь? — негромко окликнули его, когда проходил мимо конюшни. Он оглянулся и увидел старого, с заросшим седой щетиной лицом конюха Ефима Дронова и кивнул в ответ.
— Рановато бы Анне помирать. Мы с ней, считай, годки… Ну что ж… царство ей небесное, вечный покой и вечная память, — сказал Ефим таким голосом, точно привет Нюше передал.
«Такие похороны закачу!» — вдруг настойчиво повторилась в Михаиле прежняя мысль. Пусть Ефим Дронов и вся деревня узнают, убедятся, как он, Михаил Волков, уважал мать. Да, да, не ей, а им, живым, надо показать это. С ними ему жить и работать. А ей теперь все равно. Она уже ничего не сможет оценить, а они смогут. Похороны — дело хлопотливое, в народе обсудное. Как и свадьба. Но коли за него взялся он, Михаил, сделано оно будет наверняка, с блеском. Его, Михаила Волкова, люди должны в каждом деле угадать и оценить.
В тот же день уехал в райцентр заказывать оркестр.
— В оплате не обижу, — деловито сулил он музыкантам. — Но прошу, чтобы оркестр был в полном составе. А то, знаете, как бывает: барабан да две трубы. Так куцо и оскорбительно взвоют, аж тошно…
— Похороны — не танцы, — защищались музыканты.
— Верно. Но можно не как-нибудь, а по-людски… Музыку подобрать. Понимаете, чтобы не рвала душу, а томила, очищала. Что-нибудь из Бетховена… скажем, известный вам марш из двенадцатой сонаты или… начало Шестой симфонии Чайковского. Сильные траурные вещи.
— Для симфонии мы, брат, слабы, но постараемся…
Михаилу льстила его былая осведомленность в музыке и то, что когда-то он сам играл на аккордеоне и гитаре, что в глазах оркестрантов выглядит толковым собеседником и заказчиком.
От музыкантов он уехал в магазин, купил ящик водки, кое-чего из снеди, заглянул в оранжерею, набрал охапку пышных гладиолусов. Эти хлопоты разгоняли в нем траурную хмурь, им все полнее завладевало ощущение того, что организация похорон — лишь очередное срочное дело в цепи его каждодневных хлопот, которое он выполнит с обычным рвением и удачливостью, за что будет вознагражден.
VIII
Хоронили Нюшу ясным тихим днем осени. В воздухе стояла солнечная прохлада, а на кладбище после недавних дождей пахло уже зимней сыростью.
Музыканты, блестя трубами, шли за гробом, важные и строгие. Вся толпа, особенно мальчишки, больше глазели на них, чем на Нюшу в гробу. Звучно и торжественно-печально лились медные голоса. Отдаваясь в самом сердце, ухал барабан.
Играл духовой оркестр, тяжелыми вздохами скорби созывал, притягивал людей.
Как желал и предполагал Михаил, на похороны вывалила вся деревня: ведь с таким оркестром тут никогда и никого еще не хоронили.
НЕБО ДЕТСТВА
В новой квартире Натальин прожил больше года, но ему казалось — несколько дней. Будто вчера плясали, рябили острыми каблучками податливый, нетвердо еще просохший пол… Натальин помнит, как за полночь распроводил он гостей, вернулся домой пьяным от радости и вина, от какой-то посвежелой любви к жене, сынишке, к жизни.
Эти часы и остались в памяти: веселые лица, щедрый шум новоселья. А потом стало тихо в доме. Время бежало споро и бесследно: как столбы на степной дороге походили друг на друга дни.
По утрам Натальин выходил на балкон второго этажа, закуривал и, ежась от рассветной сырости, скучно оглядывал пустынный двор, сжатый с четырех сторон пятиэтажными коробками. Сотнями распахнутых форточек и окон, словно открыв сонные рты, дома пили тихую, устоявшуюся за ночь свежесть. Там и сям резко вскрикивали будильники — городские петухи. На балконах и в окнах появлялись заспанные люди. Гулко хлопали двери в подъездах. Осипло, картаво перекашливались у гаражей озябшие мотоциклы… Все двигалось, торопилось, разъезжалось.