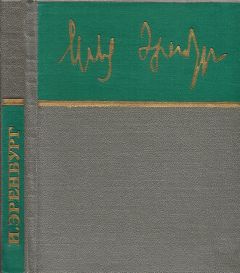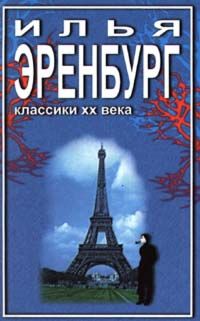Илья Эренбург - Неправдоподобные истории
Следует сказать, что только в глазах невежественного профана «чека» — это нечто простое, что сразу понять можно. На самом деле учреждение это сложное и деликатное с механизмом, который по-дилетантски, с маху не постигнешь. «Чеки» много, и вся она разная, есть у нас представители «вечека», есть «губчека», есть «орточека», есть «уточека» (ее любители буколики «уточкой» обозвали), есть и совсем особая, «ОО», такая страшная, что даже наш заведующий секцией, на что важный, в комячейке состоит, лошадьми пользуется, и тот, когда заговоришь с ним об «ОО» этой, ерзать начинает:
«И что вы всегда о таком вспоминаете, лучше бы о музее нашем или о детках в яслях, миленькие детки, крохотные, а то и не ровен час, сами знаете, ведь я „мартовский“, плохой выводок, нестойкий, как анкету о стаже подписываю, рука дрожит и росчерк подозрительный получается, вроде старорежимного…»
Так вот все «чеки» дружно взялись за дело, защелкали машинки, забегали элегантные сотрудники, все автомобили города засопели, ну, и, надо признаться, обыватели струхнули изрядно — уж очень все это недобрые признаки. Одни уверяли, что раскрыт заговор, не то монархистов, не то анархистов, и сейчас начнут обстреливать городской театр, где будто монархисты или анархисты, свергнув власть, строчат радио в Европу (радио стали у нас привычными, легче, кажется, всю Эйфелеву башню нотами закидать, нежели городскую открытку отправить, вот наш секретарь Попов, когда машинистка Шумова спрашивает, что на свете новенького, — глядя на ноги ее в огромных бобриковых валенках, галантно восклицает: «Вы Терпсихора — последнее саморадио»).
Другие утверждали, что никакого заговора нет, в театре идет репетиция «Гамлета», приспособленного артистом Клюковым для производственной агитации, а чекисты суетятся по случаю нового сбора излишков. Туманное слово «излишки», когда-то в детстве еще читал я в книжке, будто американские рабочие бисквиты едят. Конечно, сам я в Америке не был, возможно, выдумка. Но у нас на сей счет построже будут. Когда последний раз просматривали потрохи, у статистика Кчемина забрали два фунта сахарного песку и теплый вязаный жилет, без которого Кчемин заболевал коликами в желудке, объявив это «излишками». Говорили, будто на сей раз отнимут все самовары, ибо медь нужна на пушки, и жена фельдшера Глумова, из Наркомздрава, свой брюхатый тщетно пыталась спрятать в пустом курятнике, присыпав, за отсутствием соломы, золой. А на окраинах бабки измышляли уж совсем бессмысленные вещи — будто чекисты гоняются за «прыгунчиками», у которых лицо ночью светится, ноги на пружинах, так что прыгать могут без натуги выше каланчи, и прибыли из американского царства, чтобы отомстить поругателям мощей святителя Трифона. Оживились все, хоть и боязно стало, но все-таки происшествие.
А автомобили гудели, свистели, рыскали, до вышедшей эссенции и лопнувших шин старались разыскать товарища Терехина. Обошли все отделы, подотделы, комиссии, комнаты, ячейки города. Заглянули в музей, где Клик, наш художник признанный, объяснял двум ломовикам, пришедшим за отсутствием чайной малость обогреться, что есть фактура и есть конструкция. Увидев чекистов, Клик, будучи от природы крайне скромным, присел в уголок за какой-то глиняный шар с жестяной покрышкой, именуемый «памятником Спартаку». Просмотрели общественный сад. Даже к Анне Николаевне, у которой иные чекисты получали шипучее и трубочки с заварным кремом, забежали, хоть и знали, что Терехин страшнейший педант, даже от повышенного пайка осенью отказался. Пошарили за городом. К вечеру стало ясно, что это не что иное, как контрреволюция.
Исполком заседал почти до рассвета, чекисты к Анне Николаевне не пошли, а всю ночь честно работали, получив предписание арестовать заложников из среды буржуазии, духовенства и левых эсеров.
Взяли помощника присяжного поверенного Тугенштейна, из комюста, по привычке — его всегда брали, обходилось дело тихо, почти любовно, и Тугенштейн на ночной звонок (даже телеграфистами не приходилось прикидываться) выходил сразу одетый, с подушкой под мышкой. Взяли еще лавочника Митрофана Саввича Романова, торговавшего прежде москательным товаром, а теперь «кустарными изделиями», т. е. половыми щетками, бисером и кислой капустой. Романова губила его явно неудобная фамилия, просил он разрешения именоваться впредь Краснолобовым, но ему было отказано, ввиду паразитического происхождения. Эти два были от буржуазии. От духовенства взяли одного протодьякона, да и тот идти не хотел, жаловался на паралич, валялся в ногах и цеплялся за дьячиху, завывавшую: «Прощай Иона, супруг мой любезный!» Труднее всего было с эсерами — хоть город у нас порядочный губернский, но эсеров в нем не осталось совсем, вывели давно. Весной семнадцатого на каждой тумбе эсер торчал, а теперь, как ни ищи, все равно не выкопать. Одних пристрелили при мятежах различных, другие сбежали, третьи коммунистами заделались. Имеется, правда, бывший студентик Пиликин, летом семнадцатого устраивавший в училище живые картины с сопроводительными речами приезжего эсера. Его можно прихватить, да на беду он этой зимой сидел уже два раза как правый эсер, а теперь предписано ущемить левых. После долгих поисков изловили служащую продкома Леватидову, которая, по ее же словам, сочувствовала прежде эсерам, даже с Черновым, будучи в Питере, на митинге ласково перемигивалась, а последнее время полевела, словом, если и не совсем, то приблизительно.
Арестовать арестовали — весь город перетряхнули, — Терехина не было. А находился он в месте, куда, конечно, уж никакой чекист, даже самый рьяный, заглянуть не надумал, а именно, в общей камере губернской тюрьмы. Председатель исполкома — средь всякой белогвардейской шантрапы!
Чтоб это непостижимое происшествие стало ясным, необходимо остановиться на двух предметах: на особенностях натуры Терехина и на галантных авантюрах сторожа Емельича. Терехин был человеком мечтательным, не займись он еще в гимназические годы политикой, вышел бы из него уездный статистик, который посреди села, глядя на чушку и слюнтяя-мальчишку, стравливающего сучек, прозревает душу природы и, приехав домой, читает на сон страничку о пантеизме Спинозы или еще в своей кухарке Луше чует Дульцинею плюс Вечная Женственность Соловьева. Человек, безусловно, возвышенный! Но в пятом классе прочел Терехин брошюрку «Пауки и мухи», возмутился нехорошим устроением мира, и отважно порешил все переделать заново. Сначала таскал «литературу», потом был произведен в пропагандисты и восьми рабочим с кирпичного завода «Глашки», прерывавшим его нудными вопросами: «вот как же насчет землицы?», читал об историческом материализме, особенно цитируя «Анти-Дюринга». Вскоре он попал в тюрьму, и потом уж из семи лет до революции четыре с половиной года провел за решеткой. В тюрьмах читал он умные книжки, делал конспекты, и до одурения спорил с меньшевиками, защищая «отрезки» против муниципализации. В краткие промежутки, обретаясь на воле, он тоже срамил меньшевиков, но уже на всяческих собраниях, и считался мастером составлять сложные резолюции с предпосылками, особенно нежно родительски повторяя: «принимая во внимание, что…» Ютился он на ночевках, а обедал, и то в самых дрянных харчевнях, лишь когда ему об этом напоминали: «Да, да, конечно, вы правы, питаться совершенно необходимо». Женщин совсем не знал, хотел как-то сойтись с какой-нибудь для идейной близости и совместной борьбы рука об руку, но запамятовал или времени не хватило.
Когда началась революция, сидел он далеко в Сибири. Приехав в наш город, сразу выступил с агитацией большевистской. Посему наши интеллигенты и объявили со всеми деталями, что получил Терехин лично от фельдмаршала Гинденбурга сто тысяч марок и золотые часы в придачу (стоит рассказать, что Терехин деньги не только ненавидел, но и держать боялся: когда раз очутились у него триста рублей «партийных», он от забот расстроился, перестал читать «Анти-Дюринга» и наконец сплавил их секретарю).
В октябрьские дни, во время короткой перестрелки с кучкой офицеров, Терехин был серьезно ранен, и полгода провалялся в госпитале. Потом поехал в Москву, писал до потери последних сил резолюции с пунктами, но был комитетом партии мобилизован для «работы на местах» и этой зимой вернулся к нам уже в качестве председателя исполкома.
Удивительно, какие есть люди, — ходят они по земле, шлепают по лужам, наступают на плевки и на прочую пакость, а все им кажется, что кругом цветочный луг, с отменными благоуханиями. Хорошая вещь коммунизм, высокая, большие дела, верно, в Москве делаются, но вот мы в захолустье нашем по обычной человеческой ограниченности больше эти плевочки замечали. Терехин же радовался, не власти и положению своему, ибо был кроток и скромен настолько, что никак не мог попросить заведующего складами выдать ему кальсоны вместо сносившихся и солдатскими штанами стер всю кожу с ног, нет, радовался он величию происходящего. В качестве председателя исполкома приходилось ему заниматься организацией хлебопекарен, борьбой с сыпняком, поставкой крестьянами картошки. Но все эти будничные дела возводил он на многоэтажные сооружения своих «принимая во внимание…», и там парили они совместно с мировой революцией, воспитанием коммунистического юношества, гигантскими видениями нового потопа, безумного ковчега среди вод и прекрасного берега, который ясен и близок.